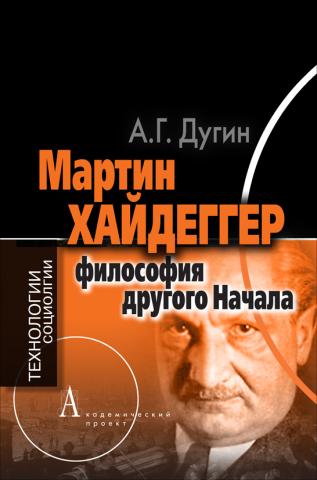
Александр Дугин
Мартин Хайдеггер
том 1
философия другого Начала
Москва
2010
Раздел 1. Seyn und Sein
Глава 1. Встреча с Хайдеггером: приглашение к путешествию
Мышление и его авторитеты
Мартин Хайдеггер — в высшей степени фундаментальный автор. Он принадлежит к тем фигурам в истории мысли, которые неизбежны. Многое можно опустить, рассмотреть факультативно, перелистать на досуге. Но есть нечто, что требует внимательного и тщательного изучения. Без этого изучения наши представления о мышлении, философии, истории культуры будут ущербны, неполны, фрагментарны, а значит, недостоверны.
Хайдеггер необходим любому, кто живет в сегодняшнем мире, в сегодняшней России, и хоть как-то пытается обосновать факт своего наличия, присутствия. О присутствии, конечно, чаще всего говорить не приходится, — ведь «при-сутствие» этимологически означает быть при сути, а кто сейчас при сути? — но хотя бы о наличии… И тот, кто хоть как-то задумывается о своем наличии, тот мимо Хайдеггера пройти не может.
Мы не можем мыслить, и в частности, мыслить о своем наличии, о себе, о мире, о жизни и смерти, без опоры на ту или иную школу мысли. Если мы сами не ведаем, какая философская система лежит в основании нашего мышления, это не значит, что такой школы нет. Она есть обязательно, ведь наши мысли и представления мы откуда-то почерпнули. Если внимательно отнестись к содержанию своего сознания и провести его инвентаризацию, мы скоро заметим – вот это в нем от Гегеля, это от логики Аристотеля, это от Платона, это отзвук мысли Декарта, а это Юма, эти мысли взяты из арсенала богословия, а эти – из марксизма, тут заметно влияние Канта, а здесь чистый осколок Шопенгауэра. То обстоятельство, что философия доходит до нас не непосредственно, а через сотни полуанонимных отголосков – в школе, семье, обществе, СМИ, образовании, бытовых разговорах и обрывочном потреблении культуры – ничего не меняет. Нам кажется, что это думаем мы сами, но такая иллюзия возникает только от невежества или плохого образования. Стоит нам начать работать над собой, и мы быстро поймем, что мы просто постоянно цитируем, и чаще всего те источники, о существовании которых не догадываемся. Поэтому любой человек, пожелавший мыслить честно, начнет с определения авторитетов и референтных систем мысли – в философии, науке, искусстве. Мыслящий человек – это всегда немного философ. А философ всегда принадлежит к какому-то направлению мысли – он либо следует за религиозной философией, либо он кантианец, либо гегельянец, либо либерал, либо марксист, либо фрейдист, либо позитивист, либо ницшеанец, либо структуралист, либо сторонник философии жизни, либо солипсист, либо экзистенциалист, либо материалист, либо дарвинист и т.д. В очень редких случаях философ способен осуществить интересный и оригинальный синтез разных направлений, а еще реже – с перерывами в столетия – появляются те мыслители, которые прокладывают новые пути и открывают всем остальным по-настоящему новые горизонты. Это великие люди, которые отмечают вехи мышления всего человечества, и оно помнит о них веками и чтит их. Тот, кто понимает великих и занимает одну из возможных философских позиций, тот обеспечивает себе статус философа, а значит, полноценно мыслящего существа. И тут главное – честность: надо в первую очередь склониться перед авторитетом (даже с задней мыслью как-нибудь позже его опрокинуть) и мыслить себя и мир в сени великих идей и теорий. Тот же кто стремится к оригинальности любой ценой, тот надолго в философии не задерживается – место таким на рынке.
Хайдеггер: великий или величайший?
Среди великих мыслителей Хайдеггеру может быть отведено два места – в зависимости от того, как мы на него посмотрим, до какой степени мы его изучим и в какой мере мы ему поверим.
Как минимум Хайдеггер является величайшим мыслителем современности, входящим в плеяду лучших мыслителей Европы от досократиков до наших дней. В этом смысле его называют «принцем философов», «князем философов». Даже те, кого его философия оставляет равнодушными или кто с ней не согласен, опираясь на иные идеи и движения мысли, безусловно, признают его величие. В качестве просто великого философа мировой истории Хайдеггер общепризнан. Никто в серьез это не оспаривает, но либо спокойно проходит мимо, увлекаясь иными направлениями в философии, либо как-то реагируют на его мысли, используют его термины (Dasein, экзистенция, Angst и т.д.), позволяют себе увлечься им.
Иное место в истории философии, которое может быть отведено Хайдеггеру, следует признать в том случае, если мы полностью поверим самому Хайдеггеру, погрузимся в его мышление, сделаем его своим высшим авторитетом. Иными словами, Хайдеггер в пространстве хайдеггерианства будет существенно отличаться от Хайдеггера в усредненной и конвенциональной истории философии. В этом случае, Хайдеггер откроется не просто как великий философ, наравне с другими великим, но как величайший из них, занимающий место последнего пророка, который завершает развертывание первого этапа философии (от Анаксимандра до Ницше) и служит переходом, мостом к новой философии, которую он только лишь предвосхищает в своих работах. В таком случае Хайдеггер открывается как фигура эсхатологическая, как финальный толковать и изъяснитесь самых глубоких и загадочных тем мировой философии и создатель радикально нового мышления. В этом случае он может рассматриваться как фигура религиозного пантеона, как «посланник самого бытия», провозвестник и подготовитель величайшего события, где завершится старая история европейского мира и начнется новая, некогда до селе не бывшая.
Мне представляется, что для наиболее верного понимания Хайдеггера более конструктивен второй подход, даже если на каком-то этапе – в отдаленном будущем – и будет пересмотрен, в нем мы сможем погрузиться в мышление Хайдеггера более полно и совершенно, не пытаясь истолковать его через апелляции к иным авторитетам (и их разрозненным следам в нашем сознании), но, позволив Хайдеггеру беспрепятственно сообщить нам то, что он силился сообщить. И лишь приняв это послание в основных чертах, поверив в его значение и его неизбежность, можно будет – если понадобится – занять в отношении него определенную дистанцию. Никто не говорит, что хайдеггерианцами надо становится всем и навсегда, но этот мыслитель совершенно точно заслуживает того, чтобы посвятить ему определенное интеллектуальное время, достаточное для того, чтобы сказать – с легкой ноткой сомнения в голосе – «кажется, мне что-то в нем понятно.» У кого-то этой займет годы, у кого-то десятилетия. Кто-то поскользнется при первых шагах. Но этот опыт стоит того. Изучая Хайдеггера, мы изучаем философию в ее современном состоянии. Она именно такова, и противопоставить этому нечего.
Хайдеггер важен не только для профессиональных философов, а для них он просто необходим (современный философ не знающий Хайдеггера смешон), но и для людей, претендующих на минимальную компетентность в вопросах культуры – для гуманитариев, политиков, художников, психологов, социологов, всех тех, кто по зову сердца или по долгу службы имеет отношение к судьбе человека и человечества, общества, истории.
Хайдеггер в СССР: дальняя полка спецхрана и напрасные тщания Бибихина
Наследие Хайдеггера в русскоязычном контексте явление глубоко специфическое.
Во-первых, его труды, его идеи, его философия, его интеллектуальная и мировоззренческая позиция в советское время были отнесены в самые опасные и неприемлемые идеологические ячейки, помещены в самые далекие и закрытые разделы спецхрана, были вменены «яко небывшие», и любой интерес к Хайдеггеру рассматривался как гносеологическое преступление или совершенно пустое занятие. Даже критике идей Хайдеггера не уделялось почти никакого внимания. Таким образом, Хайдеггер как и многие другие немарксистские философы был для позднесоветской (не говоря уже о ранее советской!) философии закрыт. Его читали, переводили и обсуждали из-под полы, что наложило отпечаток на качество этого прочтения, переводов и обсуждений.
Тем не менее, группа советских философов, отбивших право заниматься критическим прочтением Хайдеггера, во главе с покойным В.В.Бибихиным, зачинателем позднесоветской хайдеггерианской школы, все же сложилась, и из этого крайне немногочисленного кружка вышло большинство имеющихся переводов. Многие были сделаны еще в советское время и имели хождение в виде самиздата.
Не ставя под сомнение искренность этих энтузиастов, следует заметить, что их переводческое творчество и степень проникновения в Хайдеггера оказались совершенно неудовлетворительными. Сложность идеологических условий, ограниченность доступа к источникам, специфичность философского образования, недостатки филологических знаний и вообще, полная неадекватность позднесоветской социальности простору хайдеггеровского мышления ответственны за то, что с интеллектуальным массивом этого круга можно без сожаления попрощаться, если мы не хотим вечно биться с химерами исторической эпохи, столь ничтожной, что она никак в чем-то никак не может кончиться до сих пор.
Представляется, что Бибихин и его единомышленники, на самом деле, горячо увлеклись Хайдеггером, но кроме этой горячности в переводах и изложениях Хайдеггера ничего нет. Читать их не возможно совершенно, так как эти тексты очень много говорят нам о трудах, состояниях, стараниях и страданиях самого Бибихина и других переводчиков, но практически ничего – кроме случайных совпадений – не говорят нам о Хайдеггере, либо дают такую картину, от которой волосы становятся дыбом. Если эти тексты признать за корректный перевод текстов Хайдеггера, то довольно быстро придется признать, с сожалением, что Хайдеггер сам не понимал, что он говорит и пишет. Одним словом, мы имеем дело с полным бредом.
Хайдеггер как самый западный из западных философов
Второе обстоятельство заключается в том, что Хайдеггер является фундаментальным звеном западно-европейской философии и соответствует внутренней логике ее развития. Поэтому в целом он внятен западно-европейскому философу, свободно ориентирующемуся в таксономии идей и теорий этой западно-европейской культуры. Чтобы понять Хайдеггера надо быть как минимум европейцем, так как сам Хайдеггер постоянно подчеркивает, что он мыслит в Европе, о Европе и для Европы, как особого историко-философского и цивилизационного целого. Догматический марксизм и русская интеллектуальная среда, довольно запутанная и в последние десятилетия СССР и сейчас, пересекаются с магистральным развитием западноевропейского человечества весьма фрагментарно, эпизодически и по касательной. Мы мыслим себя европейцами, и в каких-то вопросах мы на них походим (внешний вид, фенотип, язык, религия, социо-политическая система и т.д.), но философия высвечивает нюансы, мысль – та область, где обмануть или подтасовать положение дел сложнее всего, и в этой сфере западно-европейского в нас чрезвычайно мало. Если оно и есть, то оно карикатурно, а скорее всего, мы имеем дело с особой разновидностью русского мышления, еще слабо осознанной нами самими, не говоря уже о других культурах. Хайдеггер в чем-то квинтэссенция западной мысли, которая является боле глубокой, более центральной и, в то же время, более западной, нежели в случае других мыслителей, к которым прорваться проще (хотя также не просто).
Спокойное, размеренное и аккуратное прочтение Хайдеггера с сохранением собственного достоинства, это, пожалуй, самое серьезное испытание для нашего русско-европейского диалога.
Хайдеггер и метаязык новой философии
И наконец, третье: Хайдеггер сознательно ставит перед собой задачу учреждения нового языка философии, своего рода метаязыка. Это вытекает из его специфической философии языка (Sprachphilosophie), которую он разрабатывает параллельно общему развертыванию своей мысли. Сущность этого подхода состоит в
1) демонтаже влияния на язык и его структуры западноевропейской философии и метафизики (с их логикой, грамматикой, имплицитной онтологией и т.д.), то есть в отказе от изложения философских тем в контексте того метаязыка, который западноевропейская философия выработала и утвердила за две с половиной тысячи лет своей истории;
2) возврате к словам (вместо терминов, категорий, понятий) и их первоначальном внефилософскому смыслу, к их этимологии, их собственному дологическому и дометафизическому содержанию и, наконец,
3) выработке нового метаязыка для новой философии, который будет на сей раз строиться на основании слов, вещающих о бытии по траектории, радикально отличной от сообщений прежнего философского дискурса.
Этот уровень хайдеггеровских текстов требует грандиозных усилий уже для полноценного европейского философа (шире, мыслящего европейца), что представляет сложность для германоязычных читателей, но еще большую сложность для носителей других европейских языков. Этот вопрос – корректной интерпретации и адекватных переводов Хайдеггера – решался в европейской философии в течение всего ХХ века, что породило своего рода хайдеггеровский словарь, с которым оперируют философы с опорой на веер переводов, каждый нюанс которых представляет тему особых дискуссий. В это постижение и перевод Хайдеггера включены не только философы, но и филологи, историки, античники, психологи, так как трудность понимания Хайдеггера является не технической проблемой, но вопросом выбора радикального поворота на западной философии, к которому призывал Хайдеггер. Переводя, толкуя и комментируя Хайдеггера, европейцы соучаствуют в этом повороте. Сложности при переводе его текстов на французский или английский возникает не меньше, чем на русский, но около столетия на этим бьются лучшие умы Европы, начиная с тех, кто читал и старался понять его в оригинале одним из первых (например, Жан-Поль Сартр, очень многим обязанный раннему Хайдеггеру – в том числе и названием своей философии – «экзистенциализм»).
Молчание Хайдеггера
Нельзя опустить из виду при знакомстве с Хайдеггером и того исторического обстоятельства, что он принадлежал в 20-е - 40-е годы к философско-идеологическому направлению «Консервативной Революции» (вместе с такими выдающимися мыслителями как Э.Юнгер, Ф.Г.Юнгер, О.Шпенглер, О.Шпанн, К.Шмитт, А. Мюллер ван ден Брук, В.Зомбарт, Ф.Хильшер и т.д.), которые, находясь в оппозиции национал-социализму Гитлера и отвергая примитивизм и брутальность его популистской пропаганды, в целом были вынуждены так или иначе конформировать с ним не только из сображений условий существования в тоталитарном режиме, но и в силу того, что они разделяли (причем самостоятельно и намного раньше, чем нацисты)
· политический романтизм и идеализм новой Германии;
· идею о необходимости возврата Европы к традиции и мифу, к корням;
· императив одновременной борьбы с либерализмом (Англией, США) и марксизмом (СССР) как с двумя выражениями одного и того же ценностного нигилизма (прагматистского, в одном случае, и пролетарского, в другом);
· ницшеанский диагноз гуманитарной болезни Европы и необходимость нового героизма и т.д.
При этом Хайдеггер, не колеблясь, в 30-е и 40-е годы открыто критиковал те аспекты национал-социализма, которые он считал ошибочными, с точки зрения своей философии. Так, он жестко выступал против идеи «мировоззрения», «ценностей», «тотальности» «политической науки», считая их выражением современного нигилизма, против которого, по его убеждению, «истинный» национал-социализм (точнее, консервативный революция) был призван бороться. В книге «Введение в метафизику»(0-0), в частности он говорит: «То, что сегодня вброшено на рынок в форме философии национал-социализма, не имеет никакого отношения к истине и величию этого движения (то есть с осмыслением связей и соответствий между современным человеком и планетарно детерминированной техникой) и ловит рыбку в мутной воде «ценностей» и «тотальностей». В этой фразе очевидно, что Хайдеггер мыслит национал-социализм через идею Эрнста Юнгера и программной работы «Труженик»(0-1-1); Хайдеггер считал идеи Юнгера совершенно адекватными, и полагал на первых порах, что национал-социализм способен эволюционировать именно в этом направлении – в направлении его «истины» и «величия», что означала в направлении юнгеровского прочтения его миссии. Впрочем, и сам Юнгер, ухвативший нерв немецкой консервативной революции и оформивший свои интуиции в фундаментальный манифест «Труженика» (Der Arbeiter), быстро оказался в Третьем Райхе во внутренней эмиграции и утратил какое бы то ни было влияния на интеллектуальные процессы, не говоря уже о политических, от которых он был всегда далек.
Формально прямое сотрудничество Хайдеггер с нацистами длилось всего 9 месяцев, когда он выполнял функции ректора Фрайбургского университета и, соответственно, был вынужден провозглашать и делать определенные вещи, которые от него требовала национал-социалистическая партия, членом которой он стал 1 мая 1933 года, и оставался вплоть до 1945, несмотря на свою постепенную маргинализацию в рамках режима и накопление к нему серьезных претензий.
Показательно, что Хайдеггер был наверное единственным культурным деятелем такого масштаба (если его масштаб вообще сопоставим с кем бы то ни было), который после 1945 ни разу не покаялся за своей прошлое, не признал это «ошибкой», не подверг национал-социализм сокрушительной критике. Хайдеггер просто молчал, и так как молчание в его философии имеет фундаментальное значения одного из диалектов, на котором бытие говорит о самом себе, то мы можем трактовать это «молчание Хайдеггера» по-разному (как, впрочем, и все остальные аспекты его творчества).
Благодаря тому, что Хайдеггер в 20-40-е годы оказал решающее влияние на многих выдающихся философов, которые оказались в стане победителей после 1945, – от фрейдомарксиста Герберта Маркузе (бывшего его учеником) и уже упоминавшегося коммуниста Сартра до его ученицы (и бывшей любовницы) еврейки Ханны Арендт, жестко критиковавшей все формы тоталитаризма и эмигрировавшей в США, где она сделала блестящую академическую карьеру, -- в общефилософском контексте эпизод сотрудничества с режимом Гитлера и даже его позднейшее «молчание» были вежливо забыты (хотя период с 1933 по 1945 год был одним из самых плодотворных в философской деятельности Хайдеггера), и кроме некоторых поверхностных скандалистов (вроде Виктора Фариаса(0-1-2)) эту тему никто больше не трогал. Хайдеггер слишком много значит для Запада, чтобы им бросаться, даже в том случае, если его поступки выходят за рамки общепринятых норм общественной морали. Гениям прощают все.
Очевидно, что для СССР, да и для современной либерал-демократической России, эти политические детали личной судьбы Мартина Хайдеггера, никак не способствуют его адекватному пониманию, и подталкивают к заведомому неприятию, предвзятости, или к избирательности в отношении его идей и текстов (в первую очередь, относящихся к периоду 30-х годов).
Случайность удач
Если свести воедино все трудности становится ясным, что Хайдеггер представляет для нас сегодня неизвестную величины. Если и есть что-то вменяемое в том, что о нем писали или что из него перевели, то это случайно. Русские очень успешны в имитации, мы часто легко можем воспроизвести того, чего совершенно не понимаем, и что остается для нас внутренне чуждым. В этом пластичность нашей культуры. Поэтому единичные успехи и удачи в осмыслении Хайдеггера правильнее всего было бы списать на случайные совпадения или удачные имитации. Даже автоматический машинный перевод текстов Хайдеггера на русский может в редких случаях дать занятный результат. Есть такие удачи и в русской хайдеггериане. Но так как без предварительного постижения Хайдеггера либо в оригинале, либо через адекватные переводы на европейские языки, отличить удачу от провала невозможно, то полезнее было бы поставить перед собой задачу выстроить все с нуля. Строители знают, что перестройка аварийного здания обходится многократно дороже, длится дольше и ставит множество дополнительных проблем, чем снос и возведение с нуля.
Этим и предлагается заняться, кто случайно или осознанно заинтересовался фигурой и философией величайшего из мыслящих людей – Мартина Хайдеггера.
Хайдеггера мы не знаем. Поэтому я предлагаю пока еще не начать узнавать, но совершить путешествие в направлении Хайдеггера, подобно тому, как Евгений Головин (кстати, один из первых и самых глубоких знатоков Хайдеггера в России) предлагал «приблизиться к Снежной Королеве»(0-1-3).
Философ как идентичность
Хайдеггер, как мы уже говорили, мыслит и представляет себя исключительно в русле и в рамках западноевропейской философии. Это замечание чрезвычайно важно для точного определения местоположения хайдеггеровской мысли. Если и можно считать Хайдеггера религиозным типом (как многие делают), если и напрашивается сама собой параллель Хайдеггера с традиционалистской критикой современной западной цивилизации(1), то мы должны максимально отложить подобные сопоставления и вначале познакомиться с Хайдеггером в том контексте, к которому он принадлежал, хотел принадлежать, в котором он осмыслял свое место и свое значение.
Хайдеггер был философом, еще точнее западноевропейским философом, ответственным за все наследие западноевропейской онтологии и метафизики, сформированной им, прекрасно в нем ориентирующийся и знакомый с мельчайшими его нюансами.
Хайдеггер всю жизнь старался держаться в рамках ее аксиом, даже ставя своей целью эти аксиомы взорвать, трансформировать и низвергнуть. С немецкой педантичностью он следовал от того момента, который считается конвенционально началом западной европейской философии, то есть, от досократиков, к тому, что конвенционально (или чуть менее конвенционально) считается ее концом, то есть к Ницше. Хайдеггер видит свое собственное место в этой цепи как резюмирующий момент для всей западной философии, поэтому ему внятны все этапы, каждый из них рассеивается на целый веер значительных подробностей и много говорит философу. Анаксимандр, Гераклит и Парменид составляют троицу досократического мышления. Платон и Аристотель – высший пик греческой мысли и создатели всей последующей европейской философии и культуры. Средневековье и католическую схоластику Хайдеггер считает лишь эпизодом, а метафизика Нового времени – от Декарта через Канта, Лейбница, Шеллинга, Фихте, Гете, Гегеля вплоть до Ницше и Бергсона видится им доведением до последних логических пределов того, что начали греки.
С известным приближением он представляет собой человека, произносящего речь после похорон. Напрашивается аналогия с заупокойной речью пастора на кладбище: «Умерший как человек был очень хорошим, он помогал бедным, в детстве не обижал младших, он прожил достойную жизнь, много трудился, а потом он умер, светлая память ему». И после этот пастор начинает перебирать еще более подробно эпизоды из жизни усопшего (учился, женился, развелся, заболел, поменял работу, вышел на пенсию, снова заболел…). Вся философия Хайдеггера — развернутый реквием по западноевропейской философии, основанный на презумпции, согласно которой «это было», «это началось» — мы еще подойдем к тому, чтó для Хайдеггера значит «начало», и чтó значит «это было» (быть для него вообще главное понятие) — и чтó значит, что того, «что было» «больше нет».
Таким образом, Хайдеггер предлагает обратиться к западноевропейской философии: во-первых, к тому, что было, а во-вторых, к тому, чего больше нет, поскольку то, что есть сейчас, это не западноевропейская философия. Последняя кончается, по Хайдеггеру, на Ницше. Сам Хайдеггер стоит на черте. С этого могильного обрыва (Abgrund)(2) Хайдеггер и ведет свое повествование, посвященное тому, что умерло.
Здесь было бы некорректно примешивать религию, традиционализм или мистику. Для Хайдеггера только философия имеет решающее значение, только ее процессы и изгибы, ее стоянки и ее постулаты, ее высоты и ее падения представляют интерес. В этом своего рода аскетизм: чтобы справиться с глубочайшим кризисом современного нигилизма Хайдеггер не ищет точки опоры ни в экзотических культах, ни в инициации, ни в тайных доктринах; он мужественно берет на себя ответственность за судьбу всего западно-европейского мышления в его наиболее западных, логосных аспектах – не в том, чему модно найти аналоги в других культурах, но в том, что составляет сущность и судьбу именно западной цивилизации.
Мыслить словами: индоевропейские зоны мышления
Прежде всего, чтобы понять Хайдеггера, мы должны научиться производить две операции, к которым подводит то, что мы уже сказали ранее об особенностях его мышления. В первую очередь, надо вслушаться в его язык. Он мыслит не концептами, не категориями, но словами. Не идеями, не принципами, не началами, но корнями слов. Его мышление — словесное и корневое. Это надо учитывать, прикасаясь к его текстам. Их чтение и осмысление требует известной (пусть начальной) лингвистической и филологической подготовки(3). Кроме того, мы, также как и он сам в случае с немецким, должны учиться мыслить словами и корнями своего русского языка. Поэтому, читая Хайдеггера, мы одновременно
· вслушиваемся (в немецкие слова),
· постигаем (смысл, замысел, интенцию мысли),
· переводим (ища русских соответствий в словах, способных передать смысл).
Чтение Хайдеггера должно стать для нас дорогой к нашему русскому языку как языку мысли, языку философии. Это ставит перед нами серьезную проблему. Дело в том, что если взять весь ареал распространения индоевропейских языков мы увидим, что каждые большие группы имеют свои философские системы с более или менее развитым философским аппаратом, либо полностью основанном на вскрытии философского значения основных слов этого языка, либо частично, перемежая это с заимствованием понятий из близких языков.
Так обстоит дело с европейской культурой, где мы имеем три базовые лингвистические группы – греческую (язык начала философии), латинскую (куда кроме латыни входят французы, испанцы, итальянцы, румыны и т.д.) и немецкую. Все три группы обладают устоявшимся философским языком с давней традиции перевода основных значений. Хайдеггер ломает это, предлагает ввести новые смыслы, вслушиваясь в корни слов. Но сам слом философского метаязыка составляет едва ли не львиную долю его текстов, которые посвящены именно этой философской традиции, родной и понятной для Хайдеггера. Этот континент европейских смыслов – с тремя языковыми основами – для нас сегодня не является само собой разумеющимся. Все реже мы качественно изучаем греческий и латынь, не факт, что достаточно владеем современными европейскими языками (хотя бы немецким и французским). Но это было не фатально, обладай мы хотя бы наброском русского философского языка. Проводя параллели с европейскими смыслами, мы ломали бы вместе Хайдеггером, понимая что, делаем, что ломаем, и строили бы вместе с ним новое, следя за траекторией разрушения и обогащая новое начинание сокровищницей русских корней. Так, в принципе, и следует поступать, с тем исключением, что нам нечего ломать, так как устоявшегося метаязыка русской философии с конвенциональными переводами европейских значений наша культура так и не выработала. Это создает определенные проблемы. Чтобы отказываться вместе с Хайдеггером от европейской метафизики, мы должны ее понимать корректно и однозначно. В противном случае, мы не поймем ни смысла, ни масштаба его философствования. Это серьезное препятствие. Прежде, чем наметить выход из такого положения, давайте посмотрим, как обстоит дело с иными индоевропейскими культурами, а есть ли там свои метаязыки философии?
В случае индоевропейского Ирана мы имеем обширную традицию специфического языка философии, где собственно персидские корни сочетаются с гигантским пластом арабской терминологии, принесенной в ходе исламизации. Французский историк религии и философ Анри Корбен(4), которому принадлежат первые переводы фрагментов главной книги Хайдеггера «Sein und Zeit» на французский, в своих многочисленных и документированных трудах показал размах и специфику этого иранского мышления – со своим метаязыком, со своими смыслами и своими особыми лингвистическими и герменевтическими правилами и практиками. Корбен дает нам проникновенное и развернутое представление о Res Iranica, о «иранской вещи». Почти то же самое сделал Хайдеггер относительно Res Europaea(5).
Еще одна индоевропейская -- индуистская культура также обладает предельно развитым и отточенным философским аппаратом, основывающимся на санскрите, и сам санскрит как таковой может быть рассмотрен как своего рода метаязык Веданты и ведантистского цикла. Такое направление как индусская миманса представляет собой отдельную область в рамках индуистской религии, отведенную систематизации санскритских звуков, букв, корней, их сочетаний и т.д.(6)
Среди всех индоевропейских культур(7) только славянский мир, по социально-политическим, демографическим, территориальным и историческим параметрам не уступающий другим великим народам индоевропейского происхождения, не имеет своего философского метаязыка, который был чем-то устойчивым, сложившимся, однозначным и понятным для каждого, мыслящего по-русски. Это заставляет задуматься о смысле такой аномалии? Почему безусловно существующая русская вещь (Res Russica) столь же безусловно не имеет своего собственного логоса? Попытки восполнить этот пробел предпринимались и славянофилами, искавшими русский логос, и западниками, пытавшимися искусственно перенести логос европейский на русскую культурную почву. Их старания следует оценить по достоинству, но в результате большевистской революции они были перечеркнуты, и Россия философская снова вступила в зону сумеречного сознания, как на многих предыдущих периодах ее истории, когда в ней было все что угодно, кроме полноценной и адекватной философской мысли.
Я рискну предположить, что среди всех индоевропейских культурных зон, русская зона стоит под паром не случайно, и не из-за нашей неполноценности и отсталости. В других вопросах – государственность, экономика, техника, наука, военная мощь, мы вполне адекватны. Просто русские ждали того момента, когда придет время творить новую философию, а старую европейскую метафизику, которую упорно навязывали с Запада мы отвергали не по неразумию, а специально, не желая в ней участвовать, соблюдая себя для чего-то более интересного и важного, для чего-то фундаментального. Если это подозрение верно, то мы дождались своего часа, старая европейская метафизика рухнула, и наиболее глубокий, серьезный и ответственный из европейских мыслителей, удостоверив этот факт, призывает мыслит радикально иначе. Быть может – самое время включаться в процесс настоящего философствования и распечатать девственное сокровище славянской русской речи для творения новых смыслов и новых интеллектуальных горизонтов с опорой на заново осмысленную русскую старину(8). Быть может мы стояли под паром именно в предчувствии и ожидании как раз такого поворота мировой истории мысли?(9)
Мыслить по вечернему
Вместе с тем, следует ни на мгновение не упускать из виду глубоко европейскую сущность мышления Хайдеггера. Для Хайдеггера Европа и Запад являются синонима и означают особую форму философствования, исторического бытия, культурного пути, которая выражает в себе идею вечера. Хайдеггер подчеркивает: Европа — это вечерняя страна, на немецком Abendland. Соответствующая ей философия – это вечерняя философия, вечерняя метафизика. Задача западноевропейской философии — это «упаковать бытие ко сну»».
В книге Хайдеггера «Die Geschichte des Seyns» сноске к разделу 3 «Европейская философия » читаем: «Der seynsgeschichtliche Begriff des Abendlandes. Das Land des Abends. Abend Vollendung eines Tages des Geschichte und Ubergang zur Nacht, Zeit des Ubergangs und Bereitung des Morgens. Nacht und Tag.» Что дословно означает: «Seynsgeschichtliche понимание Запада (страны вечера). Страна вечера. Вечер (Запад) -- исполнение дня истории и переход к ночи, время перехода и подготовки утра (завтрашнего дня). Ночь и день»(10).
Но ясно осознавая свою идентичность как европейца и европейского мыслителя, Хайдеггер, как, впрочем, и все европейцы, не сомневается в том, что путь Запада, его вечерний путь, это выражает в себе универсальную траекторию бытия, по которой следуют все народы и культуры, но где сами европейцы идут первыми, а значит, они первыми не только спустятся в ночь, но и первыми увидят рассвет. Хайдеггер говорит: «Сегодня вся планета стала европейской (западной)(…). Под «европейским» (западным) надо понимать не географию и не расширение влияния, но историю и изначальность исторического в ней»(11). Хайдеггер имеет в виду под историей – западную историю, то есть историю западной философии, как квинтэссенцию истории, а следовательно, наиболее важным ее моментом он полагает «начало» -- эпоху возникновения философской мысли в Греции.
Приравнивание западно-европейской культуры к универсальной отражает общий для людей Запада «культурный расизм», который в полной мере был свойственен и самому Хайдеггеру(12). Однако, к его чести надо сказать, сам он никогда не заблуждался, что Запад несет другим не «прогресс» и «развитие», но нигилизм, пустыню, забвение вопроса о бытии, разложение и гибель (все прелести ночи). Современный Запад тоже универсален, но так, как универсальны разложение и гибель. Самую яркую форму этого вырождения Хайдеггер видел в «американизме», который он рассматривал как «планетаризм» (сегодня мы сказали бы, «глобализм» и «глобализацию»). «Планетаризм же есть переворачивание начала (западной философии) в безбытийности своего развития»(13). В истоках своего вечернего пути, Запад еще освещал другим культурам мир лучами заходящего солнца. В последнюю эпоху «американизм», «прагматизм», «техника» и «расчетливость» несут человечеству лишь тление. Но и в этом тлении, извращении и ничтожности современного Запада Хайдеггер видел сымсл и вселенское значение.
Будучи мыслителем Запада Хайдеггер мыслит по-вечернему. Даже более, чем по-вечернему, по-ночному. Он видит свою миссию в том, чтобы подвести итог всей западно-философской традиции. В каком-то смысле, его книги -- это последнее, что можно сказать на «вечернем языке». Язык Хайдеггера – это не язык Хайдеггера, как личности, это финальный аккорд западно-европейского языка. Хайдеггер – последняя точка западно-европейского мышления. Он и его философия не частный случай – это судьба, рок (в смысле исполнения про-реченного). «В начале языка лежит поэма», говорит Хайдеггер. В конце языка лежит философия Мартина Хайдеггера. И она же хочет стать началом нового языка, предвозвестиям языка утра.
Хайдеггер считал, что в последние века среди всех остальных европейцев, начиная с Гете, Лейбница, Канта, романтиков, Шеллинга, Фихте, Гегеля и вплоть о Ницше ответственными за мир — «миром» (die Welt) он называет совокупность сущего в целом (das Seiende im Ganze) — являются немцы. От древних греков он прослеживает прямую линию к немецкой классической философии, и далее к себе самому.
Глава 2. Бытие и сущее
Различение («ontologische Differenz»)
В основе философии Хайдеггера, всей его мысли лежит представление о различении («ontologische Differenz»). Это понятие, французское «la difference»(14), немецкое «Unterschied», для Хайдеггера становится фундаментальным философским действием. Не всякое различие, но различие всех различий -- различение между сущим (das Seiende) и бытием (das Sein).
Сущее и бытие суть не одно и то же. В этом зазоре, в наличии тождества и нетождества (одновременно) в паре (и непаре) этих двух понятий заключается вся острота философии Хайдеггера. Получив «помазание» Хайдеггером -- вникнув в природу мысли, в природу метафизики, в глубину человеческого бытия -- относительно этой важнейшей диады, как ее понимал Хайдеггер, мы отныне будем мыслить в каждой ситуации, при решении любой проблемы, при прочтении любого философского труда по-хайдеггериански.
Очень важно определить, какие слова немецкие соответствуют этим фундаментальным русским словам. «Бытие» по-немецки Хайдеггер называет das Sein, исходя из неопределенной формы глагола sein (то есть славянское «бытие» -- или греческое einai -- есть нечто среднее между отглагольным существительным и герундием). В немецком языке есть форма образования отглагольного существительного, подразумевающего присовокупление к глаголу артикля среднего рода. Если бы мы переводили das Sein совсем строго, то должны были бы употребить не вычурное и довольно позднее и искусственное русское отглагольное существительное бытие, весьма удобное, однако, для перевода богословских текстов и западной философии, но церковнославянский глагол быть в неопределенной форме, то есть, быти. У нас нет прямой возможности использовать неопределенную форму глагола, поэтому мы пользуемся существительным, но сказанное надо всегда иметь виду, иначе мы впадем в ту ошибку, смысл которой будет понятен в последующем изложении. Мы не поймем Хайдеггера, если точно не уясним себе, о чем идет речь.
Das Sein и das Seiende
Итак, das Sein — это то, что мы переводим как бытие, подразумевая под ним быти, и сущее, по-немецки это выражается активным причастием от того же глагола sein — das Seiende. Что такое сущее? В церковнославянском была также такая форма, как сый, что подразумевает «тот, который есть». Различие между сущим, с одной стороны, и бытием, с другой стороны, различие между das Seiende и das Sein является смыслом и основой всей философии Хайдеггера.
Здесь снова следует обратиться к грамматике. Хайдеггер подчеркивает, что спряжение глагола или образование различных форм — это всегда его наклонение, его со-пряжение с чем-то, упругое нагибание. В чистом виде – в инфинитиве -- глагол sein (или глагол быти) существует сам по себе, и ни к кому и ни к чему не относится, ничего не обозначает, ни кому не «поклоняется», не перед не «склоняется».
Попробуйте понять, что такое делать. Мы понимаем, что означает «он делает», мы знаем «делающего», мы знаем «сделанное». Но разве мы способны представить себе, вообразить, что такое делать? Инфинитив не имеет четкого образа, ему напрямую ничего из сущего не соответствует. Делать («деяти» по-старославянски) – это будет что-то, что осуществляется неизвестно кем и неизвестно по отношению к чему, а такая степень абстракции не представима. Если мы все же попытаемся отнестись к этому инфинитиву глагола делать в поисках соответствий и образов, то мы сразу окажемся в странной ситуации. С одной стороны, нам это что-то скажет, с другой, мы не сможем ухватить то, о чем идет речь, сколько бы мы ни старались. Деяние приобретает наглядность только в ходе спряжения, со-пряжения, когда оно идет в упряжке с местоимением или существительным, то есть с лицом (персоной, субъектом или объектом). Мы осознаем полностью смысл глагола, когда он прояснен лицом и числом, когда он уже «нагнут». В чистом виде, когда глагол существует сам по себе как rhma, как инфинитив, мы его не схватываем, он от нас ускользает, — даже такой конкретный глагол, как делать.
А что же говорить о гораздо более сложном и ускользающим в силу своей мнимой очевидности глаголе быть?
Но если пытаться схватить смысл этого глагола (по аналогии с глаголом делать) в его неопределенной форме, в инфинитиве, он от нас уклониться еще решительнее.
Инфинитив есть фундаментальная операция сознания по развоплощению наглядного сущего в действии, она сопряжена с самими корнями мышления, и от того как она осуществляется, во многом зависит вся структура мышления, надстраиваемая над своим изначальным базисом, где оно еще обретается в тесном соседстве с сущим.
В этом-то как раз состоит вся трудность и вся проблематика философии Мартина Хайдеггера.
Сущее легко понять: основание мышления
Что такое сущее, das Seiende? Ну, это мы как раз отлично понимаем. Речь идет о том, что наличествует, о том, что присутствует, о том, что есть перед нами. Сущее есть, и то, что оно есть как сущее, наличествующее, делает его наглядным и очевидным. Сущее понятно, и прямота такой понятности, то есть строгого соответствия первой операции мышления констатации наличия, лежит в основании мышления как такого. Мышление может принимать различные формы – самые причудливые – но во всех своих изгибах и парадоксах оно постоянно отсылает нас к сущему, как своей главной констатации. Мышление констатирует, что сущее есть. С этого оно начинается. Если есть сомнение в том, что сущее есть, что оно есть сущее, то мышление немедленно сбивается, смысл утрачивается, приходит безумие.
Опыт сущего – это главный и стартовый опыт мысли.
Есть — это третье лицо, это вполне конкретная вещь. Вся совокупность вещей и каждая из вещей, включая нас самих, вполне и без проблем может присвоить себе статус сущего, того, что есть. В этом нет никаких сложностей; с сущим мы можем легко столкнуться. Всё, что мы видим, всё что было, всё, что мы мыслим или о чем мы помним, это сущее. Сущее это, пожалуй, самая внятная и самая базовая идея отношения человека к миру, к самому себе. Понять сущее очень просто. Оно представляет собой то, что дает себя нам, то, что наличествует, то, что при-сутствует.
Конечно, в философии может возникнуть вопрос, интересовавший как античных софистов, так Канта и феноменологов. А знание о том, что сущее есть, относится к самому сущему или к знанию? Является существование присущим сущему, или оно есть предикат разума, которым сущее награждается в базовой операции мышления? Кант отчетливо сформулировал эту проблему, поставив вопрос о вещи-в-себе и вещи-для-нас, то есть о ноумене и феномене. Гуссерль, основатель феноменологии и учитель Хайдеггера, чтобы обойти этот вопрос предложил ввести понятие «ноэма», то есть сущее, которое является сущим в сфере мышления и является интеллектуальным объектом, феноменом мышления, соответствующим не самому сущему, но мышлению о сущим, включая приписывание ему свойства сущего.
При всем видимом усложнении, все по сути остается довольно простым. Не столь уж важно, является ли сущее сущим само по себе и правомочно ли вообще ставить вопрос о «сам по себе», когда речь идет о философии, то есть о области мышления, где безусловны и фундаментальны лишь законы мышления, определяющие то, как оно поступает со всем остальным. Существует ли сущее само по себе, как ноумен, или его существование является предикатом (т.е. тем, о чем ранее заявили» о – латинское «praedecire» -- «провозглашать», «говорить заранее», немецкое Zuspruch) разума, не имеет решающего значения для разума, в обоих случаях речь идет о «ноэме» -- в одном случае имеющей строго соответствующий ей и независимый от нее предмет, в другом – либо не имеющей его, либо он соответствует не строго и не является независимым.
Как объект или как феноменологическая ноэма сущее есть, и это очевидно. Это очевидно для мысли. Мысль имеет дело с этим как с первоочевидностью. Признав обратное – что сущего нет, мы рушим механизм сознания, выводим его из строя и тем самым прекращаем быть мыслящими существами. Прекратив гипотетически быть мыслящими существами, мы не можем больше быть уверенными существуем ли мы, то есть существа ли мы, поскольку мы более не владеем процедурами утверждения о существовании и несуществовании ни нас самих, ни того, что вокруг нас. В таком случае, кто-то другой -- кто сохраняет разум -- будет за нас решать, есть ли мы или нас нет.
Человек древними греками, начиная с Аристотеля, определялся как zoon logon econ, то есть как «животное наделенное словом-языком-мышлением», теряя логос, мы теряем не только человечность, но и животность, предоставляя другим заботу о нашей классификации в многообразии видов.
Бытие есть проблема: ведущий вопрос философии
Если сущее понятно и прозрачно, и эта понятность и прозрачность составляют основу мышления, то с бытием все намного сложнее.
Когда мышление делает первый, часто незаметный для самого мыслящего шаг, оно утверждает (имплицитно), что сущее есть. Это не проблема и не вопрос, а основа мысли. Тот, кто просто мыслит, всегда осуществляет это перводвижение.
Но в том случае, когда мыслящий начинает мыслить о том, как он мыслит, то мыслит о мысли, размышление о сущем приобретает совершенно иной характер и развертывается на ином, более высоком этаже сознания. Рефлексируя над собственным мышлением, мы так или иначе и к нему прикладываем свойство сущего. Пусть не так ясно как у Декарта, с его cogito ergo sum (мыслю, следовательно, «азъ есмь», «я существую»), но нечто подобное осознавали еще древние философы. На сей раз это требует постановки сущего под вопрос, чтобы как минимум отделить свойства того сущего, о чем мыслит мыслящий, от свойств того сущего, которым является мыслящий.
Это, по Хайдеггеру, является «ведущим вопросом философии» (Leitfrage), который формулируется так «что такое бытие сущего как такового?» или иначе: «что есть общего у всего сущего, что делает это сущее сущим»? или «что присуще сущему в целом»?
То, к чему обращен этот «ведущий вопрос философии» и есть бытие. Оно мыслится через сущее, но как нечто отличное от сущего, хотя и присущее ему. Можно описать генезис этого вопроса двояко: эмпирически и рационалистически. Эмпирически это будет выглядеть как два последовательных этапа «естественного» мышления над данностью сущего. Первый этап – простая констатация, что сущее есть. Второй этап – стремление к обобщению наблюдений за сущим, к систематизации и иерархизации свойств сущего. Наблюдая за сущим, сознание начинает подмечать определенные закономерности, и на каком-то этапе (появление философии в Античном мире) приходит к выявлению того, что у сущего в целом есть общее свойство. Так возникает представление о бытии и соответствующий вопрос: «что есть это бытие?», «каково оно»?
Второй путь к тому же вопросу может идти через мыслю над мыслью, о чем мы уже говорили, с подспудной и нарастающей убежденностью в том, что сущее, способное мыслить о другом сущем, является сущим более высокого порядка, и его существование требует иной формы существования, то есть мысляще сущее есть принципиально иначе, нежели немыслящее (или мыслимое). Эта высшая форма сущего также ставится в соответствие с сущим в целом, с общим в сущим и выводит на проблематику «что есть бытие сущего?».
Итак, бытие как das Sein, как греческое einai, как инфинитив появляется в области мышления в тот момент, когда мышление начинает думать о чем-то, что превышает мысль о сущем как таковом. Это и есть начало философии – выход за рамки первичных мыслительных констатаций из сферы сущее есть. Причем здесь есть один принципиальный момент. Мышление о сущем только, как оно есть в прямом опыте, является потенциально безграничным. Мысль может перебирать сущее, переставлять его, сопоставлять, различать и соединять, и не переходя на второй уровень -- размышления о бытии. Поэтому мысль о сущности сущего воспринималась древними греками как вторжение в жизнь чего-то божественного. Именно это заложено в известном высказывании Гераклита Эфесского о единстве сущего и логосе. «Если вы прислушаетесь не ко мне, но к логосу, мудро будет в нем пребывая сказать: все едино»(15). Хайдеггер в лекциях о логосе Гераклита(16), подчеркивал, что логос Гераклит связывал с божественной молнией. Только молния божественного логоса, превышающего мыслительные возможности самого философа (поэтому он уточняет: «прислушаетесь не ко мне», способна подтолкнуть к суждению о бытии в целом – в этом фрагменте к суждению о «единстве всего». Хайдеггер подчеркивал, что в философии Аристотеля единство выступает почти как синоним бытия – en есть синоним on, поэтому можно толковать это фрагмент именно как связывающий логос с бытием, возводя вся проблематику мышлению на второй – высший уровень. На этом уровне и формулируется «ведущий вопрос философии».
Там, где ставится вопрос о бытии, начинается философия. Эта граница отделяет просто мысль от философской мысли.
«Ведущий вопрос философии» был сформулирован некорректно
Все сказанное выше о сущем и бытии, не содержит в себе пока ничего нового и специфического, кроме быть может упорной фиксации внимания на отношении бытия и сущего. Это отношение (das Bezug) -- является важнейшей проблемой для всей философии Хайдеггера. Приблизительно так описывает онтологическую проблематику классическая история философии, полагая это общим местом.
Радикальная новизна Хайдеггера сказывается в том, что он уже с первых своих феноменологических текстов выражает явную неудовлетворенность самой формулировкой «ведущего вопроса философии». У него вызывает подозрение уже изначальный философский фундаментал в обосновании бытия как общего свойства сущего. Он видит в этом нечто глубинное, основополагающее, решающее для всего процесса западно-европейской философии, и толкует как фатальную ошибку, как погрешность, как упущение чего-то самого главного, что не так просто выразить и описать, но что он интуитивно схватывает как поворотный момент мировой истории.
Отношение сущего и бытия уже в Античности было осмысленно неверно, и хотя эта погрешность на первых этапах была бесконечно малой, она росла по мере выведения всех следствий из заложенных начал философии, пока, наконец, не превратилась в тотальный онтологический нигилизм философии Нового времени, и особенно, ХХ века. Ключ к пониманию настоящего положения дел в философии, истории, культуре, даже политике, по Хайдеггер, надо искать на заре западно-европейской цивилизации – в решении соотношения бытия (Sein) и сущего (Seiende) у первых философов.
Уже тогда в выяснении отношения бытия и сущего, в самой постановке «ведущего вопроса философии», что-то пошло не так. Что пошло «не так», почему оно пошло именно «не так», и как надо «так» – составляет основной нерв философии Мартина Хайдеггера.
Глава 3. Фундаменталь-онтология (17)
Сложность Bezug'а
Выясняя характер онтологической проблематики, Хайдеггер выдвигает такой тезис: «Sein ist das Seiende nicht», «бытие не есть сущее». С одной стороны, это не значит ничего кроме того, что мышление о бытии сущего как сущего должно куда-то уводить нас от сущего, почти очевидно. Оно и уводит, но не так, как это следовало бы. Здесь на первый план выходит структура Bezug'а (отношения).
Bezug, состоящий в выяснении соотношения сущего и бытия, в античной философии структурируется совершенно определенным образом. Мысль о бытии сущего приводит древне-греческих философов к понятию сущности, как того общего, что объединяет все сущее в его наиболее общем качестве. Сущность по-гречески – oὐóίá, существительное женского рода, образованное от причастия настоящего времени глагола åἶíáé, быть, sein. На латынь позже этот термин перевели как essentia или substantia, что сделало смысл расплывчатым. В русском языке точнее всего передает этот смысл сущность. В этом месте следует снова обратиться к метаязыку Хайдеггера, так как он настаивает на том, что oὐóίá есть Seiendheit, то есть такое понимание бытия, при котором оно отождествляется именно с общим качеством всего сущего как сущего, и тем самым основывает совершенно особый путь развития философии, где отныне бытие как åἶíáé устойчиво и неизменно мыслится именно как oὐóίá, что выражается формулой Sein=Seiendheit, бытие есть сущность сущего.
Это и есть Bezug всей западно-европейской философии, которая структурируется вокруг именно такой онтологической картины и основывается именно на таком способе мышления – бытие есть сущность сущего, и соответственно, учреждается два параллельных уровня – уровень сущего и уровень сущности (oὐóίá, Seiendheit). И в этот момент Хайдеггер делает важнейшее судьбоносное утверждение: античная философия (а вслед за ней и вся современная западно-европейская философия) дифференцируя бытие и сущее через сущность фундаментально проглядела различие бытия и сущего, построила абстрагирование от сущего по прямой аналогии с самим сущим. В результате получилось, что бытие (как сущность сущего), хотя и мыслилось отличным от сущего в его отдельности и конкретности, но совпадало с сущим в его всеобщности, то есть, в конечном счете, мыслилось в свою очередь как сущее. Это было, конечно, другое сущее, сущее высшего порядка или верховное сущее, но все равно именно сущее. В результате бытие обретало свойство сущего, то есть о нем можно было сказать, как это сделал Парменид, что бытие есть. Такое утверждение возможно только в отношении сущего, пусть даже самого возвышенного, изначального, простого и единого. Если бытие есть, то оно есть сущее – пусть не просто как сущее, но как сущность сущего.
Греки, как и люди Запада, слишком любили сущее, и стали жертвой этой фатальной любви, предопределившей весь строй западно-европейской философии.
Хайдеггер говорит это не с раздражением и высокомерием, но с глубоким пониманием и сопереживанием. Бытие как то, что делает сущее сущим должно каким-то образом сопрягаться с сущим, связываться с ним; и если следовать за этой мыслью, мы, действительно, в какой-то момент придем к убежденности, что бытие есть, что оно есть сущее, самое главное и чистое из сущего. Утверждение противного, что бытие не есть сущее, может приниматься лишь до определенных границ, когда надо подчеркнуть, что бытие как общее не таково как сущее как частное, но и у частного и у общего есть то свойство, которое делает их едиными – и то, и другое есть.
Но понимая глубину онтологического различения и Bezug'а традиционной философии, Хайдеггер говорит: вот в этом-то все и дело; здесь коренится принципиальная ошибка – если бытие не есть сущее, то именно это должно составлять его основное свойство; но в этом случае оно не может быть тождественно сущности сущего, и, следовательно, оно не есть общее для сущего. В таком случае бытие не есть, есть не сущее, есть ничто из сущего (в том числе и не сущность сущего, и не общее, не oὐóίá и не kïéíïí). Одним словом бытие есть ничто (das Sein ist das Nichts), утверждает Хайдеггер, а не понявшая этого западно-европейская философия есть великое заблуждение длительностью в две с половиной тысячи лет.
Онтика
Рассматривая проблему отношения (Bezug) сущего (Seiende, on) ) к бытию (Sein, εἶναι), Хайдеггер вводит три уровня онтологии, в соответствии с которыми эта проблема может быть рассмотрена в разном ракурсе. Эти определения Хайдеггер дает в своей главной работе «Sein und Zeit»(18).
Первый уровень он называет «онтическим», от греческого ον (сущее) (οντο — родительный падеж, от которого обычно образуются сложные слова в греческом).
Когда выше мы пытались ответить на вопрос, что такое сущее самым прямым и доступным образом, мы находились в этой области – в области онтики. Онтическое измерение есть прямое схватывание разумом окружающего мира с его различиями и многообразием при том, что здесь разум еще не ставит перед собой вопроса о том, что есть бытие сущего или сущность сущего и ограничивается простой констатацией, что сущее есть сущее. Мышление как таковое в его наиболее естественном и простом виде развертывается именно в этом измерении. Мыслить о сущем как о сущем – значит сравнивать одно сущее с другим сущим, выстраивать ряды сущего, сопоставлять их между собой, но всегда оставаясь на одном и том же уровне мыслительной топики (то есть пространства мысли), не выходя за его пределы, то есть на задаваясь вопросом о том, откуда взялось сущее, что есть бытие сущего, где конец сущего и каков этот конец и т.д.?
Онтическое поле свойственно как позитивным наукам, так и бытовому мышлению, как высоко развитым системам подсчета и классификации, так и самым банальным ментальным реакциям обывателя самых различных культур – от примитивных до самых изощренных.
Древние греки определяли как поле сущего собирательным понятием «fusiz», и область оптического мышления может быть названа вслед за Аристотелем «физикой». Чуть позже мы увидим как много вложено в это понятие.
В отношении философии онтическое мышление может рассматриваться как нечто подготовительное, как то, что лежит в его основе. Это уже мышление, но еще не философское (в полном смысле этого слова). Это мышление словами, а не понятиями, очевидностями, а не отвлеченными концептами; это оперирование вещами, а не сущностями, даже если эти вещи имеют ментальную природу, то есть являются ноэмами, по Гуссерлю. Для Хайдеггера этот уровень мышления чрезвычайно важен, так как именно с него начинается философия, и то, как она начинается, как она обращается с пластом онтического мировосприятия и мироосмысления, в каком направлении от него отталкивается и куда движется далее, имеет принципиальное значение для всей траектории становления философии и в огромной мере предопределяет ее судьбу, и ее конец.
Онтология
Второй уровень Хайдеггер называет собственно онтологическим. Онтология начинается там, где ставится «ведущий вопрос философии»: «каково бытие сущего», «что есть сущее в целом», «какова сущность сущего?»
Здесь-то и появляется проблема качественного различия между сущим и бытием, следовательно, онтология основана на выяснении структуры и качества отношения одного к другому. Здесь вопрос о бытии ставится в самом центре мышления. Это начало философии, которая в отличие от мышления как такового выходит на принципиально новый уровень, где в центре внимание ставится вопрос о бытии сущего и нетождество бытия и сущего.
По Хайдеггеру, основы онтологии равно как и самой философии (философия и онтология, с точки зрения вопроса о бытии, являются тождественными понятиями) были заложены досократиками и окончательно оформлены Платоном и Аристотелем, и в таком законченном виде перешли к христианскому богословию и философии Нового времени. То, как первые философы осмыслили вопрос о бытии сущего, стало судьбой, роком для всей западно-европейской философии, так как их выбор, их решение этой проблематики заложили основополагающие рамки всего дальнейшего философского процесса. Они являются создателями той онтологии, которая прочно ассоциируется с этим понятием и берется без дополнительных определений. Есть только одна онтология – это онтология греков, ставшая онтологией европейской философии.
Эта онтология решает вопрос о бытии так, как мы сказали выше. Она отождествляет бытие сущего с сущностью сущего (oὐóίá), и утверждая различие сущего и бытия (как общего для всего сущего свойства), вместе с тем относятся к бытию как к тому же сущему, но только более высокого порядка. Хайдеггер утверждает, что это и есть самое главное. Онтология уже с самых первых своих этапов сбивается с того пути, который был ей, казалось бы, предначертан. Рождение философии и молниеносный прорыв к логосу подталкивали мысль к отрыву от онтики, к прыжку за горизонты сущего и к открытию, выявлению бытия. Это была бы подлинная трансцендентность, то есть за предельность и она, и только она обеспечивала бы философии ее необратимую и неотразимую фундаментальность. Мысля о сущем вначале онтически, яростная мысль греков, входивших во вкус свободы, должна была бы совершить бросок в ничто, в несущее, где и следовало бы искать бытие как истинную основу сущего. Но греки поступили иначе и создали онтологию, основанную не на ничто, а на сущности сущего, то на бытии как всеобщем свойстве сущего, тем самым породив «фиктивную трансцендентность», которая не прорывалась к подоплеке сущего, к его скрытому фундаменту, но удваивала топику сущего дополнительным этажом, который оставался сущим (как бы его ни называли), но при этом выступал для сущего в онтическом срезе высшим началом – то есть бытием. В более поздних работах (особенно в период 1936-1946 годов) Хайдеггер ввел важнейший элемент своего метаязыка – написание слова «Sein» «бытие» в двух вариациях в обычной «Sein» и в устаревшей – «Seyn». Это различие имеет радикальное значение. (На русском, правда, нет никаких возможностей передать это различие с опорой на русские слова – пусть самые вычурные).
Онтология оперирует с бытием как с Sein, понимая под этим Seiendheit, сущность. Seyn -- же это бытие, которое, напротив, полностью ускользает от онтологии, постигается не со стороны сущего, а иначе (скорее, со стороны не-сущего, то есть ничто), и представляет собой подлинную трансцендентность и аутентичную философию, которую Хайдеггер предлагает создать. Онтология как она есть, таким образом, создает над сущим (и онтикой) искусственную конструкцию «эссенциализма», которая становится полем философии, а сама философия занимает место царицы наук, обуславливая в свою очередь принципы, основания и методологии наук физических, а также этики, грамматики, математики, геометрии, филологии, эстетики и т.д. Все это есть результат одной (изначально бесконечно малой) ошибки.
Вместо того, чтобы стать по-настоящему более глубоким и фундаментальным, первичным и обуславливающим уровнем мышления, онтология по мере своего становления лишь все более расстраивала нормальное функционирование онтического мышления, создавала заторы и тупики, искажала и корежила сущее и постижение сущего. Вместо объяснения fusiz онтология ее насиловала, навязывая сущему абстрактные конструкции, основанные на неверно ориентированном базовом движении логоса.
Логос в онтологии, который и отличал ее от онтики, был сконфигурирован в греческой философии таким образом, что оперировал с сущностью как будто с бытием, приравнивая бытие к сущему (откуда Парменидовское «бытие есть, небытия нет»), и таким избытком ложной позитивности привносил в ансамбль сущего негатив, разрушение и смерть. Вместо спасения сущего через бытие логос губил сущее через сущность (эссенциализм).
У Аристотеля все философские интуиции первых греческих философов приобретают законченную и систематизированную форму. И показательно, что одна из его работ получает название «Метафизика», то, что идет после «физики» и как явления и как другого трактата Аристотеля. Метафизика фактически тождественна онтологии (и западно-европейской философии целом), так как ставит своей задачей обосновать область начал, лежащих за пределом физики (то есть онтики). Хайдеггер настаивает, что вся западно-европейская философия является метафизикой (то есть онтологией), даже та, которая эксплицитно отвергает любые аппеляции к метафизике – как философия Ницше, философия жизни, позитивизм или прагматизм. Метафизика как онтология давно стала единственным и общеобязательным стилем западно-европейского мышления, которое построено всегда и во всех случаях эссенциалистски – неважно идет ли речь о системе идей (идеализм), вещей (реализм, материализм), понятий (концептуализм), ценностей (аксиология), о системе полезного (прагматизм), вульгарных политических мировоззрениях и даже нигилизме. Все это – выражение метафизики, так как матрица мышления во всех случаях одна и та же и основана на (ложно)трансценденталистской (удвоенной) топике.
К фундаменталь-онтологии
Теперь мы переходим к самому главному, к сердцевине хайдеггеровской философии. Сама критика онтологии (и метафизики) как ложной онтологии и идентификация истоков главной ошибки в первых шагах греческой философской мысли, что предопределило весь дальнейших ход развития западной философии, уже сама по себе предполагает наличие альтернативы. Если мы поняли, что было не так, по обратной аналогии мы можем попытаться определить, как должно быть или должно было бы быть, чтобы все было так -- так как надо.
Хайдеггер вплотную подводит нас к следующей цепочки размышлений. Вопрос онтического мышления – естественного мышления, еще не задающегося вопросом о бытии сущего -- остается той базой, на которой строится в дальнейшем философия. Но по мере становления этой философии и по мере конституирования все более и более развитой и весомой онтологии (метафизики) мы все дальше удаляемся от онтического, практически полностью подменяя его онтологическим. Параллельно этому происходит растущее вытеснение природы техникой, искусственными продуктами человеческого общества. Онтология подминает под себя все, включая свои онтические основания.
Раз нам предлагается пересмотреть онтологию в ее истоках, значит, нам необходимо снова вернуться к онтическому – причем в той форме, в какой оно пребывает в начале истории философии, в своем первозданном свежем и начальном виде. (Эта проблема решается в книге «Sein und Zeit»(19) и пиком ее решения становится выдвижение на первый план Dasein'а(20)). Чтобы проделать это, надо разгрести колоссальные наносы, которыми является все здание европейской философии от досократиков до ХХ века. Однако эта важнейшая операция еще не даст нам результатов, но только выведет на стартовый уровень – к выяснению онтического мышления и его структуры. В какой-то степени эту же задачу ставит перед собой феноменология с ее концепцией «Lebenswelt», «жизненного мира» и основными методиками.
Дойдя до онтического и очистив его от онтологии, мы оказываемся в той же позиции, что и сами творцы западной философии, заложившие основные траектории ее будущего развития. А значит, перед нами стоят те же проблемы и те же вопросы. Вот здесь-то и начинается различие. Мы должны по-другому ответить на основные вопросы развертывания логоса, но должны заново поставить основные вопросы. Хайдеггер говорит о том, что если «ведущим вопросом философии» (Leitfrage) был вопрос о сущности (как общего свойства) сущего, то «основным – лежащим в основании – вопросом философии» (Grundfrage) должен стать вопрос об истине бытия (uber Wahrheit des Seyns – обратите внимание, что речь идет о Seyn через «y»).
Философия начинается там, где появляется вопрос о бытии сущего. Это вспышка божественного логоса, освещающая новое измерение мысли, выводящая к новым горизонтам. Но мы видели, что в случае онтологии этот вопрос был сформулирован крайне неудачно, а ответ на него и вовсе заключал в себе катастрофу. Онтология, пытаясь взлететь над онтикой, создала фальшивую трансцендентность, метафизику как удвоение топики сущего, где сущему онтически был добавлен план такого же сущего, но только на сей раз сущности, эссенциальный срез. В онтологии греческий логос порвал связи с сущим и онтическим его восприятием, тем самым искорежив его, но не смог прорваться к бытию как таковому. Из этой трагедии вылилась история Западной Европы и ее философии.
Хайдеггер предлагает зафиксировать наше внимание на этом моменте. Нам недостаточно вернуться к онтике в ее неиспорченном состоянии, нам надо повторно пройти взрыв логоса, пережить новый опыт молнии, но на сей раз, наученные горьким опытом, роковой ошибки, мы должны сформулировать вопрос о бытии напрямую – не через сущее (Seiende) и не через тупиковый путь эссенциализма (Seiendheit – как Sein через «i»). Онтологическое различение должно на сей раз быть проведено радикально и с концентрацией философского внимания на самом бытии – Seyn, которое не только не есть сущее, но и не может определяться приписыванием атрибута «есть», на бытии, которое не есть, и которое, следовательно, есть ничто. Отталкиваясь от онтического (от сущего) мы должны пойти на сей раз в ином направлении – мы не должны над ним возноситься (оставаясь привязанным к нему и разрушая его этим двусмысленным отношениям – как в случае европейской метафизики), мы должны заглянуть под него, углубиться в его праоснову, где ничего нет, то есть есть ничто. Но это ничто не есть просто не-сущее, считая от сущего. Это ничто, которое делает сущее сущим, не становясь сущим. Это животворящее ничто, конституирующее своим тихим могуществом все.
Это и будет фундаменталь-онтология, онтология, построенная по принципиально новым выкройкам, нежели вся предшествующая философия. В этой фундаменталь-онтологии должен воссиять новый логос, на сей раз сконцентрированный не на сущем, а на ничто. Если логос классической метафизики мыслил ничто как антитезу сущего, а обобщенно как антитезу сущности, и в конечном счете, как антитезу себя самого, что и привело его к тотальному нигилизму, поскольку поступая так, он уничтожал, игнорируя его, то ничто (Seyn=Nichts), которое животворило сущее, то логос фундаменталь-онтологии будет мыслить ничто не как антитезу сущему, а как его живительный и вечно присутствующий исток, который снимая сущее как сущее, будет утверждать его принадлежность к бытию.
Как возможна фундаменталь-онтология? Она возможна, поскольку философия есть поле абсолютной свободы, где мышление может осуществить самые дерзкие и самые непредставимые повороты. Но она возможно только в том случае, если свобода мыслящего сопряжется – в предельном риске – с истиной бытия, позволит этой истине сбыться.
Философия Мартина Хайдеггера – это философия перехода к построению фундаменталь-онтологии.
Глава 4. Das Seynsgeschichtliche
Die Geschichte и Seyn
Существительное «Seynsgeschichte» и образованное от него прилагательное «seynsgeschichtliche» играют огромную роль в философии Хайдеггера и напрямую связанную с проектом разработки фундаменталь-онтологии. Мы видели, насколько глубинным и непростым является этот проект, требующий построения такой онтологии, которая была бы альтернативной всему массиву западно-европейской мысли. Поэтому круг выражений и используемых слов в направлении, связанном с фундаменталь-онтологией требует от нас повышенного внимания.
Прежде чем мы приступим к выяснению значения составного слова «Seynsgeschichte», рассмотрим два входящих в него корня. Seyn мы уже встречали. Это слово, написанное через «y», у Хайдеггера означает бытие в его фундаменталь-онтологическим понимании, то есть бытие не как общее свойство сущего, не как сущность, не как констатацию логоса, построенную на основании рассмотрение сущего через само сущее, но как прорыв в его чистую и свободную от жесткой привязки к сущему стихию, то есть как ничто (Nichts). Теперь обратимся к слову Geschichte, которое переводится на русский однозначно как «история». Но сам Хайдеггер, и к этому мы должны уже были привыкнуть, не просто не соглашается отождествлять die Geschichte и «историю» (die Historie) по-немецки, но противопоставляет их. Поэтому если мы переведем «Seynsgeschichte» как «история бытия», мы попадаем мимо хайдеггеровского намерения. Еще хуже обстоит дело с прилагательным «seynsgeschichtliche», передать смысл которого на русском вообще не приставляется возможным – «бытийно-исторический» или «быто-исторический» не только звучит нелепо, но и отдаленно напоминает совсем иной круг сближений и значений, нежели тот, что имеет в виду Хайдеггер.
Посыл и скачок
Обратимся к этимологии немецкого слова Geschichte. Оно происходит от глагола geschehen, что означает «происходить», «случаться». По первоначальному значению оно близко к немецкому Ereignis(21) – дословно, «событие», «происшествие». С этим словом Хайдеггер сближает по смыслу и форме другое немецкое слово «Geschick» (более употребительно сегодня в форме «Schiksal») – «судьба», которое, в свою очередь, образовано от глагола «schicken», «посылать», «отправлять». Поэтому в слове Geschichte как в сообщении о происшествиях (заслуживающих внимания) Хайдеггер читает значение судьбинности, не случайности и еще глубже «посыла». То, что происходит в истории в ее наиболее существенном измерении есть некоторый посыл, который и выступает как то, что случается и происходит, давая этому смысл. Если история есть повествования о происшествиях, явлениях, деяниях и событиях, то Geschichte – это путь смыслов, который идет сквозь история, как то, что в ней послано. История – это конверт, Geschichte – содержание послания. Судьба состоит в том, что все случающееся представляет собой общее связанное и целенаправленное действие, в котором нечто передается от кого-то кому-то через что-то и для чего-то.
Если углубляться в этимологию и дальше, то мы увидим, что оба слова «geschehen» и «schicken» на самом деле восходят к общему индоевропейскому корню -- *skek-, который означал резкое движение, прыжок, рывок, порыв, отрывистый жест, а также бег. В русском языке от этой основы образован глагол «скакать» (в значении «прыгать»). Это важно отметить, так как у Хайдеггера мы сталкиваемся с толкованием слова «прыжок», «скачок» (Sprung) как основного философского действия, водящего нас в область фундаменталь-онтологии. Чтобы перейти от онтологии к фундаменталь-онтологии надо совершить скачок – не просто плавный переход, не эволюцию, не перетекание, но именно резкий и травматический, рискованный скачок, который проходит на бездной (Abgrund). При этом Хайдеггер подчеркивает, что этот скачок может быть смертельным, так как мы стоим на краю пропасти и у нас нет места для разбега.
Собирая все вместе, мы видим, что Geschichte – это не плавно развертывающееся полотно истории, исторического процесса, это совокупность отдельных резких скачков над бездной, предуготовляющих последний и самый важный (самый сложный и опасный) финальный скачок. О содержании посыла этих скачков, предуготовляющих последний скачок, нам сообщает употребление слова Seyn. Так мы узнаем, что отправителем, равно как и получателем этого посыла было само бытие (Seyn), которое оповещало себя о себе через скачки (каждый скачок – это этап философской мысли, связанный великим философом и его открытиями), чтобы в кульминационной точке (эсхатология бытия) перейти от онтологии (открывшейся как современный европейский нигилизм) к фундаменталь-онтологии. Это и есть Seynsgeschichte.
Seynsgeschichte как соучастие в бытии (Seyn)
Seynsgeschichte – это не просто область мысли или отрасль науки, это резкое усилие распознания посыла бытия (Seyn), заложенного в историческом процессе через расшифровку глубинной философской интенции мыслителей, поднимавших онтологическую проблематику, говоривших о ней косвенно или умалчивающих о ней (что не менее важно). Культура и все общественные и исторические события и трансформации в этой Seynsgeschichte могут служить лишь второстепенными декорациями, далекими следствиями того, что решается в философии.
Seynsgeschichte возможна только будучи осмысленной и утвержденной исходя из горизонта фундаменталь-онтологии. Без этого она будет просто Geschichte, в которой также мы видим и посыл и скачки, но у нас нет уверенности, что мы читаем в этом посыле послание аутентичного бытия (Seyn), а не ложной трансценденции старой онтологии. Например, философия истории Гегеля – это Geschichte, то есть уже не история, но и не Seynsgeschichte. Поэтому Seynsgeschichte и само ее существование зависит напрямую от того, будет ли принято решение (Entscheidung) о переходе к фундаменталь-онтологии и будет ли этот переход (скачок, прыжок) успешно совершен. Поэтому Seynsgeschichte это проект, а не нечто наличествующее, это не данность, но задание. Если мы сможем обнаружить истину бытия (Seyn) через него само, а не через сущее и не как общее свойство сущее, то мы увидим, чем был исторический процесс на самом деле и что в конечном счете, сообщали нам великие мыслители о последних горизонтах свое мысли. Тогда мы вступим в область Seynsgeschichte, не только осознав то, что было, но и сами завоюем право присутствовать в ней и получим возможность быть в бытии будущего (которое будет). Но если этого не произойдет, и будет принято решение продолжать оставаться под «ярмом» старой метафизики, то у нас не будет даже Geschichte, и останется только мертвая история с ее бессмысленным и бесконечным перечислением деталей прошлого, ничего не говорящих духу последних людей и представляющих собой лишь культурную конвенцию.
Понять посыл бытия (Seyn) можно только в состоянии скачка (прыжка) над бездной, и само это понимание будет высказывание самого бытия (Seyn). Поэтому Seynsgeschichte может в свою очередь служить отправной точкой для всего философствования в рамках фундаменталь-онтологии: прорвавшись к Seynsgeschichte и осмыслив сам о значение этого слова мы уже в силу самого этого события конституируем процесс развертывания фундаменталь-онтологии и выражаем через нас посыл бытия (Seyn).
Но, обратите внимание, стоит нам включиться в соучастие в прыжке, мы не только радикально изменим траекторию и строй нашего действительного существования и двинемся к новым горизонтам по совершенно новому пути, но и впервые откроем то, что по настоящему было в прошлом. То, что было в прошлом, было посылом бытия, который остается всегда неизменно свежим и острым, всегда новым и живым. Поэтому смысл прилагательного seynsgeschichtliche означает схватывание бывшего в пролом как настоящего, становление современниками того, что в прошлом не просто проходило и происходило (этот как раз не так важно и это устарело, это прошло), но что в нем было. Через прилагательное seynsgeschichtliche мы становимся современниками великих идей и великих людей, так как сами поднимаемся на последние высоты, откуда хорошо видно только другие горные пики, а копошение мелкого, происходящее в темных долинах мы не можем разобрать ни применительно к своему времени, ни прежним эпохам. Подлинный мыслитель знает о деталях общества, в котором живет столь же мало, если не меньше, чем о деталях жизни людей далеких эпох. Но ему внятен голос бытия, звучащий из уст древних яснее и громче, чем зуд бессмысленных толп – как древних, так и современных.
Seyn ist Zeit
Такой взгляд на историю как на Geschichte и тем более Seynsgeschichte может вызывать недоумение у тех, кто некритически впитал нормативы западно-европейской онтологии и метафизики как несомненные аксиомы, и привык рассматривать время как нечто объективное или, по меньшей мере, самостоятельное и автономное. Современная философия, наука и, соответственно, современные обыватели(22) мыслят время как то, в чем развертывается бытие.
Но для Хайдеггера Zeit (время(23)) не что-то отдельное, или добавочное к бытию, не то, где и в чем это бытие реализуется, не некое априорное условие (пусть субъективное или трансцендентальное – как у Канта). Для Хайдеггера бытие и есть время, соответственно, время и есть бытие (Seyn ist «Zeit»(24)).
Zeit Хайдеггер видит как Seynsgeschichte, то есть развертывание бытия во времени, при том, что бытие мыслится не как нечто отдельное, развертывающееся во времени, но как само время. Однако это не время в естественно-научном понимании (априорный модус существования объекта) и не история к гуманитарных науках (как нечто человеческое – совокупность человеческих деяний, ответов на вызовы и т.д., где субъектом выступает человек и человеческое). Во времени (Zeit) как Seynsgeschichte нет ни самостоятельного объекта (природы), ни субъекта (человека). Героем Seynsgeschichte является само бытие, оно же время. Это бытие (Seyn) относится к себе самому и к сущему (Seiende), развертываясь как время. Но сразу заметим: речь идет о бытии как Seyn, а не о бытии как Sein! То есть время (Zeit) Хайдеггер понимает фундаменталь-онтологически, а не онтологически.
В таком времени (как в Seynsgeschichte) прошлое в том смысле, в каком оно было, есть. А то, что не есть, того не было! И будущее (das Kunftige) в том смысле, в каком оно будет, уже есть, и обязательно было раньше. На-стоящее время есть при-сутствие (parousia) бытия (Seyn), какое-то другое настоящее, кроме как присутствия бытия (Seyn) – ненастоящее «настоящее».
Раз бытие (Seyn) есть время (Zeit), то, соответственно, не всё в истории из того, что нам кажется бывшим, на самом деле было, а многое из того, что было, нам не известно – ровно в той степени, в каковой мы сами не есть (по-славянски это звучало бы: «мы сами несмы»). Здесь можно было бы напомнить формулу поэта и философа Евгения Головина: кто умер, тот никогда не жил(25). То, что прошло и стало прошлым, прошедшим (Vergangene) -- того никогда не было. А то, что было, бывшее, никогда не является Vergangene, оно непреходяще.
Эти соображения необходимы для того, чтобы яснее понимать Seynsgeschichtliche. Речь идет о том, что судьба (посыл) бытия (Seyn) есть судьба (посыл) времени (Zeit), времени как общего для природного и человеческого, фундаментального, глубокого, изначального явления, предшествующего разделению на естественное и искусственное, обнаруживающееся как таковое в рамках сущего (das Seiende), но совпадающего в своих основах с бытием (das Sein).
Три пласта истории
Введение измерения Seynsgeschichte и рассмотрение времени и его событий и закономерностей с фундаменталь-онтологических позиций выделяет три уровня в том, что обычно именуется общим словом «история».
Показательно, что в русском языке это слово появилось из немецкого в XVII веке – при Петре Первом, а в немецкий оно пришло из греческого - ἱστορία – через латинский – historia. До этого в русском языке специального понятия не было – исторические сведения сообщались в летописях (в частности, «Повесть временных лет») и литературе церковного цикла (изучение Ветхого и Нового Завета, святоотеческая литература, поучения, жития святых, толковые Палеи и т.д.). Русское слово «былины», «были» и «былички», по смыслу соответствующие хайдеггеровскому Seynsgeschichte в русском обществе прилагались соответственно или к богатырскому эпосу или к полумифологическим, полуисторическим рассказам более заниженного, бытового содержания, что делает эти слова непригодными в данном контексте. В православной традиции Seynsgeschichte точнее соответствует понятия судьбы и промысла. Судьба – это изначальный суд, рассуждение, которое предопределило развертывание мировых событий, определив каждому их них место, порядок и смысл. Промысел – прямая отсылка о божественном мышлении, Премудрости Божией (софии), заведомо (во время оно, в вечности) упорядочивших сущее, последовательность и характер его возникновения (genesiz) и исчезновения (jqora). Эти параллели для нас важны потому, что Хайдеггер производит с понятием истории операции, которые, с одной стороны, постоянно оперируют с привычными («школьными») западно-европейскими смыслами конвенциональных понятий и их классических и общепринятых толкований, с другой, приводит эти понятия к этимологии и изначальному смыслу древних слов, и в третьих, ниспровергает устоявшиеся конструкции и подталкивает к созданию радикально новых – фундаменталь-онтологических. Чтобы русскому сознанию строго следить за тем, что Хайдеггер делает и к чему призывает, необходимо постоянно учитывать дистанцию между русской культурой и русской мыслительной традицией (о русской философии и тем более о русской онтологии я бы говорить пока поостерегся), с одной стороны, и структурой западной ментальности, западного интеллекта, с другой. Борясь с аксиомами западно-европейского историцизма, Хайдеггер сражается с тем, что нам далеко не очевидно и что мы восприняли с Запада поздно, фрагментарно и поверхностно, что успело засорить наше сознание, но не стало полноценной системой априорий, поддающихся при необходимости четкой рефлексии. Поэтому в данном случае следует снова вспомнить, что Хайдеггер говорит о западно-европейской истории, которую (по умолчанию как и все западные люди) считает единственной и универсальной, но что мы совсем не обязательно должны признавать как истину, но теме не менее будем постоянно учитывать, чтобы лучше понять контекст, в котором движется мысль Хайдеггера.
Итак, в истории с позиций Seynsgeschichte можно выделить первый срез, который будет соответствовать онтическому измерению и повествовать о сущем как таковом. Такая онтическая история представляла бы собой рассказ о том одно сущее сталкивалось бы, расходлось бы, конфликтовало бы или мирилось с другим сущим, как сущее рождадось и исчезало, появлялось вновь, изменялось и снова меркло. Чисто теоретически такая онтическая история представляла бы собой документальное повествование о сущем как таковом, но, несмотря на то, что современные историки (особенно «школа анналов») попытались построить такую модель истории на основании кропотливого изучения бытовых заметок, хозяйственных документов и иных практических текстов, фиксировавших рутинный распорядок жизни среднего человека прошлых веков, быстро выяснилось, что достоверной картины о сущем в прошлом мы получить все равно не можем, так как отбор подлежащего документации и, тем более, ее многоуровневая интерпретация (от самих составителей до переписчиков и, наконец, самих историков) отражает все что угодно, только не сущее как оно есть само по себе. Иными словами, имея дело с историей, мы всегда имеем дело с интерпретацией, а значит, не просто с нейтральным описанием сущего, но с таким описанием, которое отражает онтологию и метафизику тех, кто пишет, тех, для кого пишут, и те, кто изучает написанное спустя какое-то время. Онтическая история как совокупность атомарных исторических фактов есть чисто теоретическая гипотеза, не подтвержденная эмпирическим опытом знакомства с историческими документами, которые носят прямо или косвенно на себе следы метафизики.
Этот второй уровень – онтологического или метафизического толкования сущего, развертывающегося во времени, с позиций представления о бытии как о сущности сущего. Эта история и есть история как Geschichte, так как на развертывается в двухуровневой топике – событие и его значение, где значение события отсылает нас к уровню не сущего, но сущности сущего. Раз такая история как Geschichte повествует нам о сущем в его связи с сущностью, то содержание такой истории будет зависеть от той конфигурации, которую приобретает метафизика, определяющая философской аксиоматику той или иной эпохи. Каждая серьезная смена этой аксиоматики будет означать смену исторической парадигмы, и фактически появление новой версии истории. Такая история есть онтологическая история, которая, в конечном счете, концентрирует свое внимание не на сущем, но на метафизическом посыле, который зашифрован в динамическом развертывании сущего и в диалектики многих сущих. Полнее всего эта картина онтологической истории представлена в философии истории Гегеля(26), который создал грандиозную панораму не истории людей, вещей и событий, но истории концептов и идей, а точнее Абсолютной Идеи развертывающей свой «посыл» сквозь многообразные диалектические этапы человеческого пути во времени. Хайдеггер подчеркивает, что после Гегеля в этом вопросе достигнута полная ясность: любая история – это повествование не о сущем, но о сущности сущего, то есть рассказ метафизики о самой себе. Западно-европейская история есть, таким образом, повествование о западно-европейской метафизике, то есть история есть не что иное, как история философии.
Онтологическая история есть история Sein, но не Seyn. Она основана на некорректном постижении отношения (Bezug) сущего к бытию. А значит, эта история подлежит переосмыслению. Это переосмысление представляет собой открытие фундаменталь-онтологического измерения, что предполагает, что не только возведение сущего к бытию (Sein) (как в онтологической истории), но тщательное исследование того, как изменялось понимание Sein в ходе – на сей раз онтолого-исторического процесса. То есть мы не просто конструируем историю как историю Идеи, но рассматриваем историю Идеи (Sein) как ее соотношение с бытием как Seyn.
Здесь мы подходим к самой сути Seynsgeschichte. Seynsgeschichte есть осмысления перипетий бытия как Sein, увиденных глазами бытия как Seyn.
Sein в онтологическом срезе истории
В одном месте(27) Хайдеггер дает чрезвычайно краткий, но выразительный набросок основных этапов трансформации Sein в западно-европейской метафизике, что по сути означает построение фундаменталь-онтологической шкалы, в рамках которой следует строить Seynsgeschichte.
|
Seyn |
|
|
|
|
fusiz idea ousia |
|
|
|
|
energia |
|
|
|
|
actus (действительность) |
|
|
|
|
perceptum (пред-ставленность)
objectum (предметность) |
} |
Субъективность а. |
|
|
действительность (Wirklichleit) ( energia – vis primitiva activa, Лейбниц) воля и разум (немецкий идеализм) |
} |
Субъективность b. |
|
|
Власть (Macht, Воля к власти Ницше) |
|
|
|
|
Machenschaft |
|
|
|
|
Seinsverlassenheit (забывение о бытии – как Sein, то есть отбрасывание онтологии – прагматизм, утилитаризм, либерализм, марксизм, технократия – А.Д.) |
|
|
|
|
задержка прихода (Verweigerung) |
|
|
|
|
лишение (Ent-eignung)
сбывание (Er-eignung) |
|
|
|
|
событие (Ereignis) |
|
|
|
|
исход-заключение-постановка (Austrag) |
|
|
|
|
Geschichte (или как собственно Geschichte – онтологическая история – или как Seynsgeschichte – это зависит от решения – А.Д.) |
|
|
|
Объяснение этой сухой схемы могло бы занять целые тома. Какие-то моменты, поясняющие ее смысл мы рассмотрим позже. Отдельные моменты получили развитие в философии Хайдеггера, другие остались в состоянии нераскрытых интуиций и набросков. Основная линия может быть сведена к следующей схеме.
Seynsgeschichte видит историю не как историю идей или идеи, а как историю трансформации отношения мышления к бытию – и тогда, когда это отношение (Bezug) описывается эксплицитно, и когда – имплицитно. Причем начинается это рассмотрение не с Sein (откуда берет исток онтология), а с Seyn, что постулируется фундаменталь-онтологией и, соответственно, меняет всю философскую топику.
Итак, Seynsgeschichte описывает следующие этапы постановки вместо Seyn (на самом верху, в истоках) иных инстанций: природа – идея – сущность – энергия - действительность – воля и разум – воля к власти -- Machenschaft (об этом чуть позже). Здесь можно оборвать цепочку и сказать, что западно-европейская история, с точки зрения Seynsgeschichte, представляет собой деградацию мысли о бытии от природы до воли к власти и механистичности (Machenschaft). В самой двухэтажной онтологической топике, в рамках которой эта история развертывалась, происходили фундаментальные изменения, общим вектором которых было прогрессирующее забвение о бытии (Sein). То есть то, что создало эту топику (мысль о бытии) постепенно терялось из виду и заменялось на все более и более грубые и отдаленные от бытия суррогаты. Иногда Хайдеггер включает в эту цепочку категории, концепты, ценности, мировоззрение и т.д. Но все упирается в «забвение о бытии» или в нигилизм, «опустынивание» (что тоже самое). На каждом этапе нисхождения второй – метафизический -- этаж этой топики все более искажается, извращается, предстает во все более нигилистическом, уродливом (с точки зрения мысли о бытии-Sein) виде.
Нечто подобное можно встретить и в онтологическом понимании истории, но вместо хайдеггеровского пессимизма мы имеем все шансы встретить либо констатацию, либо оптимизм, утверждающий, что таким образом человек освобождается от внешних ограничений метафизики. Хайдеггер же утверждает, что все это и есть чистой воды метафизика, создавшая эту топику и поддерживающую ее независимо от того, что онтологический аргумент, лежащий в основе этой топики, непрерывно меняется.
«Забвение о бытии» является последней точкой Seynsgeschichte. С этого момента начинается собственно поворот к фундаменталь-онтологии. Seynsgeschichte готовится к радикальному переключению режима – от неаутентичного развертывания Geschichte к аутентичному наступлению Seynsgeschichte.
Первым феноменом Seynsgeschichte в этом новом режиме – ожидания переключения регистра на Фундаменталь-онтологический – является столкновение с «задержкой» (Verweigerung). Казалось бы, точка полночи достигнута, но, видимо, все еще нет. «Всегда это «все еще нет»», изумляется Хайдеггер. Фундаменталь-онтология медлит.
Тем не менее, следующим за этим промедлением моментом является решение (Ent-scheidung). Это важнейшая категория Seynsgeschichte. Решение есть решение о переходе или непереходе к фундаменталь-онтологии (поэтому на схеме слово «переход» взято в кавычки и поставлено с вопросительном знаком). Выбор осуществляется между лишенностью (бытия-Seyn) и его сбыванием. В случае выбора сбывания происходит событие (Ereignis), Seyn открывает свою истину. Далее следует развертывание сущего по линии Seyn, а не по линии Sein, то есть осуществляется фундаменталь-онтология, утверждающая первичность Seyn в отношении Seiende и проявление такого сущего, которое будет мыслится не от себя самого и не от своего общего (сущности), а от бытия (Seyn) как ничто. Это – постановка (Austrag) или Geviert (четверица)(28).
Все вместе это выливается в историю (Geschichte), взятую как Seynsgeschichte.
Язык и глагол «быть» в Seynsgeschichte
Добавив к хайдеггерианской топике измерение Seynsgeschichte мы можем лучше понять, какая возникает симметрия между важнейшими словами и их значениями, относящимися к бытию. Разделив Sein и Seyn, Хайдеггер вынужден выстроить двойную смысловую структуру , связанную с образованием от них вторичных слов.
По линии онтики мы имеем дело с сущим (Seiende). Сущее есть (das Seiende ist) – это вполне корректное онтическое утверждение. Оно лежит в основе языка и мышления. Язык позволяет сущему высказать самое главное, что оно не может сделать никаким иным способом, оно дает возможность заявить что сущее есть. Предикат «сущее», который человеческая речь либо утверждает, либо подразумевает, чтобы она ни рассматривала, делает ее исключительным явлением. Человек есть говорящее сущее, мыслящее сущее, и уникальность этого состоит в присвоении тому, о чем говорится статуса сущего. Этот онтический язык предшествует метафизике и относится к предыстории, к эпохе, когда философия еще не началась, не вступила в свои права. В этом языке видны присутствия Seyn, но это Seyn не осмыслено, оно омывает сущее спонтанно и естественно – помимо человеческой свободы и человеческого выбора. Это Seyn еще не вступает в посыл, в судьбу, в Seynsgeschichte или в Geschichte (историю как онтологическое явление).
Онтический язык – это предыстория и предфилософия. В этом языке сущее есть, но характер этого «есть» не осмысляется. Все сущее здесь живет рядом с другим сущим и еще не разделено от него.
Например, тропинка и заросли. В онтическом предисторическом бытии они могут свободно перетекать друг в друга. Тропинка теряется в лесу и незаметно сходит на нет. Культура теряется в природе. И точно также густые заросли разряжаются сами собой и открывают свободный путь, причем не тогда, когда путник этого возжелал, а сами по себе, образуя дорогу там и тогда, когда ее никто не просил и не ждал. Так сущее свободно играет в самом себе, и то, что оно есть, и то, что есть некто, кто говорит о нем и о том, что оно есть, никак не вредит этой онтический игре.
Когда начинается метафизика, все меняется. Задумавшись о бытии сущего, и придя к выводу о том, что этим бытием является общее свойство сущего, то есть его сущность (Seiendheit, эссенция), человек начинает собственно историю как Geschichte. Тут возникает новый язык. Это язык понятий и категорий. Он вводит в сущее дополнительное сущее – сущность сущего (бытие как Sein, а не Seyn, а далее природу, идею, ousia, энергию, действительность и т.д. вплоть до воли к власти и глобальной машинерии). В этом языке сущее мыслится и называется отныне на само по себе, но через его соответствие с чем-то еще, с сущностью сущего, с сущим в целом. Это сущее в целом дает и промежуточную инстанцию – между конкретным сущим и сущим в целым (бытием как Sein) возникает сущность этого конкретного сущего, как его основной (бытийное) свойство. Так тропинка становится конкретным выражением «тропинкости», а заросли – «зарослевости». При этом тропинка уже не имеет права потеряется (что это за тропинка, если на никуда не ведет), а заросли должны быть густыми (в противном случае они превращаются в редколесью, в опушку или луг). Между одним сущим и другим сущим возникает бездна, которая покрывается только через обращение к их сущности.
Так возникает особый язык, в котором начинают действовать логические правила, жесткие структуры, а главное, который строится на референции, соотнесении сущего с сущностью, которой может выступать идея, концепция, универсалия и т.д. Сущее раздваивается. Язык из выражения сущего становится навязыванием сущему представлений.
Здесь меняется значение глагола быть. В метафизике, глубинно аффектировавшей язык и мышление западно-европейского человечества, сущее перестает быть само по себе – само по себе оно уже не есть, оно черпает свое бытие из сущности. Оно есть не прямо, а опосредовано, через причастность к сущему. Так возникает концепция бытия (Sein) как сущности (Seiendheit), которое ссужает сущему его главный признак – то, что оно есть. Отныне «есть» уже надо понимать иначе, чем раньше. Есть сущее или нет решает уже не мышление, но философия или выстроенные на ее основе теологии и науки. Сущее отныне как бы есть. Может, есть, а может и не есть, все зависит от чего-то радикально другого, нежели само сущее.
К такому радикальному выводу западно-европейская философия приходит не сразу, но после Канта и Гегеля, у Шопенгауэра, Кирхегора и Ницше, а также в философии феноменологов это становится очевидным. Вначале сущее было в той степени, в какой оно соответствовало идее (Платон). В конце Нового времени сущее стало сущим, потому , что этого требовала воля к власти, разум и представление. В иных терминах, потому, что это было «полезно», «ценно», «удобно» и т.д. Какова бы ни была инстанция, выносящая свой декрет о том, что сущее есть или что его нет, это было уже не прямое мышление и не само сущее, выражающее свое онтически понятое присутствие в бытии.
Здесь Хайдеггер снова пересматривает отношение к слову «быть» предлагает отнестись к нему иначе – в соответствии со структурой Seynsgeschichte. Сущее в онтическом (предисторическом и предфилософском) смысле есть только в том случае, если мы отвлечемся от метафизик и истории. Накладываясь друг на друга, онтическое и онтологическое путают эти смыслы. Мы не можем смотреть на сущее без учета западно-европейской метафизики и, соответственно, абстрагируясь от Geschichte. Поэтому, когда мы говорим, что сущее есть, мы чаще всего имеем именно онтологический смысл – то есть, что она есть по причастности к бытию как сущему в целом (Sein). Но такое «есть» уже не онтическое «есть», в его безусловном и предонтологическом, нереферентном выражении. Такое «есть» -- это «есть» философии, а не мышления в его онтической простоте и наивности, не «есть» языка. Чтобы провести эту разницу Хайдеггер напоминает о существовании архаической (гомеровской) формы греческого причастия on (сущее), где сохранялся первый звук e – оно звучало не как on, onta но как eon, eonta(29). Eon – то сущее онтически, оно есть так, что это не надо доказывать никакими ссылками; on – это сущее в философском смысле, онтологичеcки, что черпает свое бытие из чего-то еще.
Чтобы терминологически упростить эти нюансы, в которых заложена вся суть его философии, Хайдеггер предлагает в определенных контекстах применять к онтическому уровню вместо бытия латинский глагол (existire) «экзистировать», который он старается не переводить на немецкий. Сущее экзистирует. В этом нет никаких сомнений ни с онтической, ни с онтологической точек зрения. А есть ли оно, это вопрос. И хотя в оптике собственно онтики сущее есть, и это очевидно (так говорит язык и прямое дофилософское мышление), это «есть» в пространстве метафизике может быть неверно понято. Экзистирование же сущего не подлежит сомнению.
Глагол «экзистировать» формально на русский переводится как существовать. Но это совершенно неприемлемо для передачи мысли Хайдеггера. Существовать – это то ли быть сущим (онтическое), то ли быть через сущность (онтологическое). И уж никак нельзя использовать его там, где Хайдеггер говорит об экзистенции – как раз для того, чтобы уйти от всяких недоразумений и двусмысленностей относительно соотношения онтики и онтологии и, соответственно, и рассматриваемого конкретного момента Seynsgeschichte.
Но в то же время, опасаясь искажения своей мысли через неверное толкование «есть» Хайдеггер вынужден идти на радикальные языкотворческие шаги и выдвигать новый глагол wesen, образованный от пассивного причастия прошедшего времени глагол sein (быть), то есть от gewesen. В немецком есть также существительное – Wesen, образованное от этой же формы и обозначающее «суть», «сущность». Хайдеггер, однако, строго разделяет сущность как Seiendheit, то есть бытие, схваченное как общее для сущего и выстроенное, отталкиваясь от сущего, и сущность как Wesen, что выражает на сей раз отношение к Seyn и бытию в его фундаменталь-онтологическом понимании. Wesen как искусственный глагол, который Хайдеггер склоняет – ich wese, du wesest, er, sie, es west, wir wesen, ihr weset, sie wesen – прикладывается к тому, что есть как выражение Seyn, то есть есть по истине Seyn-бытия. Вот здесь как нельзя кстати нам может пригодиться русский глагол существовать, не наделенный, к счастью, вообще никаким философским смыслом, и означающий только факт бытия сущего – без ясных отнесений к онтике, онтологии или фундаменталь-онтологии. Мне представляется, что будет вполне корректно зарезервировать за ним при передачи смысла хайдеггеровской философии именно фундаменталь-онтологического значения. «Существовать» может стать лейтмотивом нового фундаменталь-онтологического языка в его русскоязычном издании. Также в русском языке простая возможность разделить «Seiendheit» и «Wesen», что в немецком означает «сущность» (эссенцию). Seiendheit можно устойчиво переводить как «сущность» (и приписать онтологическое и метафизическое значение), а Wesen как «суть» (и использовать приоритетно в тех темах, которые связаны с фундаменталь-онтологией).
Итак, у Хайдеггера мы можем встретить сущее в трех позициях относительно Seynsgeschichte.
онтически (предфилософски, предысторически): сущее экзистирует (Das Seiende existiert);
онтологически (философски, метафизически, но что можно толковать также и онтически и фундаменталь-онтологически): сущее есть (Das Seiende ist);
фундаменталь-онтологически: сущее существует (Das Seiende west).
![]() экзистирует
экзистирует
сущее есть
существует
«Есть» всегда можно понимать двояко и как «существует» и как «экзистирует» и как собственно «есть» (то есть по принадлежности к бытию как общему для всего сущего). Но в любом случае мы избавимся от русского недостаточно продуманного и поспешного неологизма «бытийствовать», которыми пестрят лобовые переводы Хайдеггера.
Употребление глагола wesen у Хайдеггера является отправной точкой нового языка — того языка, на котором должна говорить фундаменталь-онтология. Этот язык должен стать выражением решения о прыжке к последнему и главному аккорду Seynsgeschichte. Само явление такого фундаменталь-онтологического языка должно быть не просто инструментом Seynsgeschichte, но ее сутью (Wesen).
Глава 5. Начало и конец западноевропейской философии
Почему вечер?
Определив общий вектор фундаменталь-онтологии, зафиксировав представление о том, что такое Seynsgeschichte, проследим основные этапы истории западно-европейской философии, как ее понимал Хайдеггер. В этом случае мы опять обращаемся к теме «заката», «запада», цивилизации , в которой солнце садится; к Abendlandische Geschichte, к истории вечера, истории вечерних стран.
В отношении этой истории Хайдеггер выдвигает основополагающий тезис: с точки зрения Seynsgeschichte, история западноевропейской философии есть процесс поступательного забвения онтологического вопрошания вплоть до чистого нигилизма; процесс постепенной утраты бытия, потери бытия – оставления бытия и оставленности бытием (Seinsverlassenheit). Говоря другими словами, история западноевропейской философии со всем ее блеском, со всеми ее роскошными прорывами, откровениями и отклонениями есть не что иное, как процесс расставания с бытием. Стало быть, это -- история заката солнца, история длящейся катастрофы, история блужданий и заблуждений — не случайно Хайдеггер называет одну из своих книг «Holzwege»(30) (на французский это переведено как «Les chemins qui ne menent nul part» -- дословно «дороги, которые никуда не ведут»; на немецком выражение «Holzwege» -- буквально, «древесные тропы» можно понять и как «лесные тропы» и как «заросшие деревьями, неторные дороги» ). Это блуждание ведет от ясности к тьме, поэтому мы имеем дело с вечером. Это процесс потери бытия, утраты, постепенного его оскудения. Переставая мыслить о бытии, философия постепенно перестает быть.
Уже на заре этой философии бытие как Seyn (фундаменталь-онтология) прячется за сущим-в-целом (онтологическим – Seiende-im-Ganze), сливаясь с ним, становится бытием как Sein, и в конечном счете, еще одной разновидностью сущего.
Потом бытие (Sein) как сущее-в-целом подменяется представлением (Vorstellung) о нем.
Потом представление приобретает все более и более отвлеченный, абстрактный, механический и условный характер, в котором все связи с сущим рушатся.
Пока, наконец, не настает эпоха нигилизма, распознанная и описанная Ницше, когда бытие окончательно пропадает за горизонтом, открывая всеоприсутствующее ничто.
Можно обозначить (фундаменталь-исторически) весь сегмент западноевропейской философии как последнюю четверть суток человечества, как предполуночное время. И неудивительно, что в этом секторе космических суток на первый план выходит именно западная цивилизация, устанавливает законы и нормы, покоряет всех остальных и заставляет принимать на веру ее формы, ее мысли и ее ценности как нечто универсальное. Запад вступает в свои права потому, что ему вверена судьба ночи, потому что он действует именем ночи, ее мощью. Солнце бытия заходит. И когда цивилизация окончательно отходит ко сну, гаснут последние свечи, которые еще освещали жилища людей прощальным, искусственным ностальгическим светом.
Спросить в такой ситуации: Почему Европа? Почему Запад? Почему западно-европейская история представляется чем-то неизбежным и универсальным? Все равно, что спросить «Почему вечер?»
Великое Начало и даймон философов
Началом западно-европейской философии Хайдеггер считает досократическую мысль и называет ее великим Началом или, иначе, первым Началом.
На этом этапе появляются философы как самостоятельный тип людей, занятых только и исключительно мышлением, и чаще всего мышлением о начале, о бытии, о самом мышлении.
Мышление – свойство человека. Неверно полагать, что до появления философии и вне ареала ее распространения люди не думали. Они думали, но не философствовали. В чем здесь разница?
Выше мы говорили о различиях между онтическим и онтологическим. Онтика соответствует просто мышлению, то есть свойству, определяющему человека как такового. Человек говорит и мыслит, и тем самым он встает на дистанцию в отношении окружающего его мира. Эта дистанция возникает вместе с человеком и выражается в способности к мышлению. Мышление же, в свою очередь, основано на разделении веще мира. Это разделение есть главное свойство мышления поскольку и в той степени, в какой человек отличает себя от мира. Это главное отличие, которое становится главным признаком человека. Отличая себя от мира, человек начинает различать вещи мира. И чем пронзительней он осознает свою дистанцию от окружающего, тем четче границы, устанавливаемые им в это окружающем. Мышление может проходить в сфере мифа, архаических культов, обрядов и преданий. Оно может быть зачаточным а может быть богато развитым, но какой бы величины не достигала дистанция человека от мира и какой бы остроты не достигала его способность к различению вещей мира и их качеств, это еще не философия. Такое – онтическое – мышление – предначально. Философия начинается в иной момент.
Этот момент начала философии состоит в том, что человек совершает фундаментальный прыжок в некоторую область, которая радикально отличается от той сферы, в которой пребывает «просто» мыслящий и мыслимый им мир. Философ в силу какой-то чудесной и уникальной способности вдруг оказывается в положении того, кто не просто различает себя и мир, но различает в себе того, кто различает, и того (что) различает, того, кто различает. Философ – это мыслящий человек, который способен помыслить то, как, о чем и зачем он мыслит.
По Хайдеггеру, этот скачок проходит через осмысление сущего и появление вопрошания о бытии сущего. В какой-то момент человека уже не удовлетворяет различение в рамках онтической системы координат, и он в уникальном действии открывает (конституирует) новое измерение Это измерения бытия. Спрашивая себя – что первичнее сущего, что есть бытие сущего, зачем сущее и куда сущее? – человек реализует высшую форму своей свободы, которая в этот момент и проявляется как его природа. Свобода дистанции внутри сущего обнаруживается как полусвобода, и человек совершает бросок. С этого момента начинается философия.
Философия, как и ее определил Платон(31) (а позже повторил Аристотель(32)) есть выражение удивления, изумления, по-гречески qaumazein(33). Оба русских слова, которые мы переводим греческое qaumazein или немецкое «Erstaunen», весьма выразительны. Удивляться образовано от «диво», то есть «чудо», нечто «сакральное», выходящее за рамки обычного восприятия. Из-ум-ление образовано аналогично греческому слову extasiz – экстаз, дословно «выхождение из себя», «выхождение из ума». Удивление, которое лежит в начале философии, это осуществление жеста, действия, движения, которые никак не предполагаются в обычном человеческом мышлении. Способность изумляться (выходить за пределы ума), удивляться, обнаруживать в мире «диво», «чудо» стоит очень близко к тому прыжку, который совершает мысль, задумываясь о бытии сущего. Сам этот прыжок и постановка вопроса, лежащего в начале философии, отсылает к наличию чего-то, что выходит за рамки человеческого. Удивление -- в изначальном смысле слова qaumazein -- вызывает нечто божественное, сверхчеловеческое, что не укладывается в пространство обычного человеческого мышления – за рамки онтического.
Поэтому прыжок первых философов-досократиков от онтики к онтологии – Анаксимандра, Гераклита, Парменида – ими самими воспринимался как столкновение с божественным, как обнаружение божественного измерения.
Высказывание Гераклита о логосе - - «Если вы прислушаетесь не ко мне, но к логосу, мудро будет в нем пребывая сказать: все едино»(34) – противопоставляет самого Гераклита как человека логосу, как божественному началу. Именно при скачке к божественному логосу человек впервые может думать о том, как он думает, и следовательно, философствовать. Философия возможна благодаря открытию божественного измерения и фиксации этого измерения как нового плана сознания, с опорой на которой отныне открывается человек и мир. Хайдеггер показывает, что логос Гераклита имеет все свойства божественного начала, равно как и Мойра Парменида (держащая в оковах шар бытия) и «хреон» Анаксимандра(35).
Это прыжок, который открывает божественное или, в иной оптике, его конституирует, и есть великое Начало. Философ, оторвавшись от простой мысли (онтическое) в экстатическом из-ум-лении (выходе за границы ума), впервые реализует полноту человеческой свободы и учреждает горизонт божественного. Отличие такого философского акта от религиозного опыта в том, что именно в философии сознание оказывается на дистанции по отношению к самому себе. Сакральное в мифе и религии исходит из сущего, которое поражает воображение и заставляет человека трепетать перед его неумолимой мощью, оно приходит извне. Сакральное в философии открывается внутри – не как великая мощь сущего, но как выпадение из него, внезапное обретение уникального внутреннего пространства, которое молниеносно освещает не просто сущее в целом как предлежащее человеку, но и самого человека как часть сущего, как различающую часть сущего. Это внутреннее сакральное философа находится по ту сторону человека точно также как он сам находится по ту сторону сущего, создавая по-настоящему новое измерение топики сознания, в котором отныне появляется точка, находящаяся в иной плоскости, нежели вся плоскость онтического – и мыслящий центр и мыслимая периферия онтического.
В великом Начале западно-европейской философии человек сталкивается со стихией божественного мышления, с опорой на которое он отныне может мыслить о том, как он сам мыслит.
В греческом мире в эпоху великого Начала вера в daimon'ов, малых божество (numen латинян) была распространена повсеместно, но только у философов daimon становится не объектом поклонения, как наделенное особой энергией могучее и невидимое сущее, но точкой, излучающей мысли о мыслящем. Таков смысл высказывания Гераклита eqoz anthropo daimon, что можно перевести как: «демон» (божество молниеносного мгновения) – это порядок для человека». Из других отрывков Гераклита можно понять, что это daimon тождественен его логосу – «душе присущ самоумножающийся логос».
К этой категории относится diamon Сократа, он выступает в его рассказах, как особая инстанция, в определенный момент озаряющий поступки и мысли Сократа как человека особым светом.
Даймон философов не просто укрощенное божество сущего, помещенное внутрь, это элемент радикально новой модели сознания, которая отныне имеет в качестве точки опоры точку, с которой человек может смотреть на окружающее его сущее и на самого себя с одинаковой степенью отвлеченности.
Начало – это утверждении этой точки, выведение на первый план этой ключевой фигуры. В этом Начале и кристаллизуется вопрос о бытии сущего, то есть берет свое начало онтология. Она становится возможной только потому, что появляется инстанция («даймон» философов), глядя из которой можно охватить сущее в целом как нечто цельное и единое («все едино» -- утверждает даймон-логос у Гераклита).
φύσις и logoò
Хайдеггер подробно описывает становление первого Начало через введение досократиками двух фундаментальных слов – φύσις («фюзис», «природа») и λογος («логос», «мышление», «слово»). Слово φύσις, давно уже ставшее философским понятием, применимым к природе, как чему-то строго отличному о человека (субъекта, культуры, общества, сознания и т.д.) в Новое время полностью утратило изначальный смысл, превратившись в готовый концепт, о семантике которого никто не задумывается. Этимологически же оно восходит к пра-индоевропейскому корню *bhū-, «бытие». По смыслу φύσις означает «всходы».
Хайдеггер иногда заменяет греческое слово φυσις немецким Aufgehen, чтобы подчеркнуть его дофилософскую семантику. Греческое φυσeén означало «всходить», «прозябать», как всходят всходы, приносящие плоды, но и «порождать» — не в смысле «отделять от себя», а скорее, «выбивать из-под…», «приводить к наличию». Так поступает земля, первостихия, дающая всходы, выталкивающая из себя различные существа. Земля, вода, воздух, огонь, первоэлементы в учениях разных досократиков осуществляют действие φυσειν, выбрасывая, выталкивая, выпрастывая из себя сущее.
Сама мысль о φύσις, о öõóeén как о чем-то целом, как о сущем в его всеобщности выражает, по Хайдеггеру, есть след онтологического прыжка. φύσις – это имя, даваемое «философским даймоном» (не человеком!) сущему в целом. Сущее мыслится как всходящее, как поднимающиеся из земли злаки. И сущность сущего состоит в самом акте этого восхождения, это становления.
В том, что именно φύσις стала главным словом первого Начала философии, по Хайдеггеру, и заключается весь ее дальнейший посыл, в этом уже заложена вся ее судьба, ее Geschichte. В прыжке за свои пределы человеческая свобода смогла обосновать точку, с позиций которой все сущее было охвачено общим обзором, но эта точка продиктовала такое имя для бытия сущего, которое стало фатальным. Европейская история в этот решающий момент сделала выбор в пользу толкования бытия как φύσις. И это было необратимо. То, что сущее есть, представляется очевидным. Но то, что бытие сущего – то есть «есть» самого этого «есть» -- это волевое решение мыслящего, прыгающего в своей мысли выше самого себя. Сущее есть, но определяя сущее как φύσις, мы незаметно приходим к выводу, что и бытие есть. Так бытие само становится сущим. Пусть первым, всеобщим и высшим из сущего, но все же именно сущим.
φύσις становится впервые не словом, но понятием, особым явлением, принадлежащим уже к области онтологии, то есть к сфере логоса, а не к сфере простого онтического экзистирования или дофилософского – разделяющего – мышления. И вокруг этого понятия начинает складываться онтология как «Физика»(37).
Глаголу, φυσειν («всходить», «давать всходы», «выпрастывать»), от которого было образовано первое философское понятие jύσις, соответствует другой, не менее важный для истории первого Начала глагол– λεγειν, откуда logoò, «слово», «мышление», «чтение». Изначально logoò обозначал не что иное, как «жатву», «собирание плодов». λεγειν и φυσειν были тесно связаны между собой. Бытие (Sein) как сущность сущего производит «всходы» (φύσις) и пожинает (λεγειν) их, выкладывая перед взором философского даймона, выносящего решение о качестве и количестве урожая. logoò и φύσις две стороны новой философской онтологической топики, в которой завоевана надежная дистанция в отношении сущего.
В той топике бытие (Sein, Seiende im Ganze, Seiendheit как сущность сущего, как пара logoò / φύσις) мыслится, предшествующим сущему, отличным от него, а значит, проявляющимся и как динамика всхода и как упорядочивающая статика жатвы (бытие-Sein оживляет и убивает одним и тем же жестом). Сквозь пару φυσειν/λεγειν (две формы существования сущего) выступает новое сущее, бытие-Sein как сущее, свободное от сущего в конкретике его динамического круговращение. Это бытие-Sein уже отчетливо описывается в философии Парменида, где встает вопрос о einai, то есть о бытии в его развоплощенной форме, оторванной от конкретного сущего. Но это бытие-Sein мыслится как сущее высшего порядка. В этом-то и заключается вся проблема. – Сделав прыжок в сторону божественного логоса-даймона, в сторону выяснения бытия сущего в изумлении, удивлении, то есть покидая сферу обычного и границы (дофилософского) мышления, творцы первого Начала немного недопрыгнули. Оторвавшись от почвы сущего на критическую дистанцию, они не смогли отдаться полету и построили новый этаж, то есть ту же почву, только искусственную, культурно-социальную, ничем не напоминающую природу, но повторяющую в тайне от себя ее структуру. Полет в бездне небес был подменен хождением по высокому помосту. И через некоторое время на следующем этапе первого Начала – у Платона и Аристотеля – мгновенный божественный даймонический логос превращается в «Логику», а бесконечно-могущественная всепорождающая стихия фюзис – в аккуратно просчитанную «Физику».
Досократическая гносеология, учрежденная новой инстанцией даймона, еще колеблется окончательно признать бытие-Sein высшим сущим. Весь строй мышления Гераклита, одному из создателей философской топики, противится предательству полета и его подмене помостом. Гераклит, вводящий logoò и φύσις, явно уклоняется от того, чтобы описывать бытие-Sein как иерархическую структурированную гносеологическую систему. Отсюда его парадоксы, отсюда его жесткие выпады против Пифагора. Гераклит более других философов первого Начала несет в себе открытую возможность, что это Начало, начавшись, станет другим. Он не хочет отрываться слишком далеко, не хочет терять его из виду, и тем более всячески противится тому, чтобы подменить его иным сущим. Утверждая взгляд на сущее откуда-то еще (из бытия-Sein), он чрезвычайно осторожно и бережно относится к этому «откуда-то еще». Он чтит логос и позволяет богам летать.
ἀλήθεια в первом Начале
Истина у досократиков мыслится как ἀλήθεια, дословно, «несокрытое» (Хайдеггер иногда использует для акцентирования этого значения досократического греческого понимания истины немецкое слово «Unverborgenheit» -- то есть «несокрытость»(38)). В первом Начале можно различить в ἀλήθεια два значения – в первом случае, речь идет о несокрытости бытия (Sein), проступающего через «всходы» и «жатву». И если бы это оставалось только так, то организующаяся онтология могла бы уже в первом Начале стать фундаменталь-онтологией, а logoò и φύσις не затмили бы собой бытие (мягко подменяя его собой), но открывали бы его истину, а само Sein в таком случае тяготело бы к Seyn. Правда, и само удивление, изумление, как главный настрой философии, должен был бы мягко перейти в более резкое и травматическое, но также вполне сакральное и экстатическое свойство – в священный ужас (Ensetzen)(39).
Но судьба западно-европейской философии, как философии вечера, была иной: мягко и незаметно «несокрытость» (ἀλήθεια) соскальзывает к несокрытости «всходов» (φύσις) и «жатвы» (logoò ), как к новому сущему -- хотя пока еще к сущему-в-целом (das Seiende-im-Ganze) и даже сущему в своих динамических животворящих истоках (das Sein im Seiende).
В этом смещении понимания «истины» (как «несокрытости») Хайдеггер распознает базовую греческую философскую мысль о том, что бытие-Sein дано как несокрытое. Мысль об истине бытия как о несокрытости бытия, данного в жесте всхода, «φύσις», он видит как гносеологический код первого Начала.
Даже в философии Парменида, рассуждающего о тождестве мышления и бытия (noein и einai) единстве бытия, о шаре бытия, истина мыслится как несокрытость, но на сей раз применительно к бытию-Sein. Хайдеггер активно возражает против противопоставления диалектики Гераклита статичной онтологии Парменида(40). Вы видим Парменида глазами платонизма и метафизики Нового времени, в то время как его следует читать в духе того философского контекста, к которому он принадлежал.
Тезис «бытие есть, небытия нет», при всей его онтологичности и видимости рывка к абсолютизации бытия как «второго сущего», не избегает общего для досократиков тяготения к виденью Sein-бытия сквозь сущее и только сквозь сущее: хотя у Парменида особо обговаривается два пути познания – истинный и ложный (первый распознает единое Sein-бытие глубже всех природных форм, вещей и явлений, это и есть онтология, а второй – путь мнения, «видимости», doxa - -- воспринимает только сущее в его явленности, доверяясь поверхностной стороне явлений и не прозревая в их глубину, это онтика).
Первое Начало досократиков мыслит бытие через акт самовыставления, поставления, становления, над-ставления, приведения к видимому, к очевидности сущего. Здесь еще все дышит Sein-бытием, то есть тем, что раскрывается в сущем, во всем чувствуется его свежесть, его глубина, его ускользающее и грандиозное величие. Но в этом любовном и страстном отношении к сущему и его истине (ἀλήθεια) уже коренится исток последующей катастрофы.
Но при этом, все же ἀλήθεια этого цикла еще может быть интерпретирована как прелюдия к фундаменталь-онтологии, и Фалес, и Гераклит, и Анаксимандр, и даже Парменид в их рывке к Sein-бытию – не будь всей последующей истории западно-европейской философии – могли бы быть интерпретированы как те, кто начинал онтологии, способную открыться в какой-то момент как фундаменталь-онтология. Отсюда и колоссальное значение мыслителей первого Начала для самого Хайдеггера и его фундаменталь-онтологического проекта. В подготовке пространства для обнаружения (истины, ἀλήθεια) Sein-бытия, можно угадать тончайшие движения мысли, которые могли бы привести к озарению истиной Seyn-бытия.
Катастрофа платонизма (идея и представление)
К тому, что приходит на смену досократикам – то есть собственно, к Сократу, Платону и Аристотелю -- Хайдеггер относится с еще большей настороженностью. Он называет этот второй период греческой философии -- «началом конца в рамках первого Начала»(41). Еще длится Начало, еще заря, еще идет традиционная Греция, но уже веет концом. Конец близок.
Здесь можно привести параллель с библейским сюжетом о появлении змея в земном раю. Казалось бы, еще рай, Адам и Евва пребывают в блаженстве и изобилии, но и в этом прекрасном и свежем мире уже дают о себе знать силы грядущей беды. И даже до этого -- еще на заре Творения первый из ангелов, существ из света, служебных духов, когда порядок только созидается, и все твари близки к Богу, поднимает восстание и низвергается со своими сторонниками в бездну. Из этой бездны он и проникнет позже в земной рай. А в конце времен власть его будет распростерта над миром, над космосом. Но появляется дьявол, зло, предвестие конца уже на первых страницах священной истории Вселенной. В безоблачном счастливом раю его гибкое тело обвивает запретное древо познания добра и зла и соблазняет Евву попробовать плоды.
Так же и внутри первого Начала, в ситуации высшего напряжения духовных сил и «райского» изначального философствования, великого досократического прыжка, когда философия, становясь онтологией, еще колеблется в нерешительности, какой онтологией ей стать – просто онтологией или фундаменталь-онтологией?; как осмыслить бытие сущего – как Sein или Seyn? -- как сущность и новое сущее или как бытие-ничто (Seyn als Nichts)? – уже близится конец. Это «первый конец», конец внутри первого Начала. Хайдеггер никогда не относился к этом концу пренебрежительно, легковесно, высокомерно, презрительно. Он чтил его, он восхищался им потому, что это, действительно, было нечто великое. Даже в ошибке и заблуждение иного есть масштаб и размах, достойных почитания, и более того, для Хайдеггера через катастрофу сократической и платонической мысли, тоже – хотя и совсем косвенным образом, через забвение о себе самом (Seinsverlassenheit), через свое сокрытие – говорит истинное бытие (Seyn).
По Хайдеггеру, конец внутри первого Начала определяется главным именем -- это Платон. Платон до него Сократ, а вслед за ним Аристотель, по Хайдеггеру, — это точное название и историческая легализация величайшей катастрофы.
Здесь фундаментальную роль играет учение об идеях. Хайдеггер разбирает фундаментальные этимологическо-философские аспекты движений платоновской мысли, которые приводят того к учению об идее. Озаренность идеями, введение идей в рамках платоновской философии для Хайдеггера является одновременно величием и фундаментальной подменой.
Величие состоит в том, что мысль Платона, как и всей греческой философии эпохи Начала, движима вопросом о бытии сущего. То есть мы имеем дело в тем уникальным и неожиданным прыжком, который осуществляет греческая мысль в сторону истины бытия от истины сущего. И эту траекторию мысли во всем ее триумфе, риске, напряжении, во всей ее фатальности и судьбинности, невозможно не увидеть в Платоне, в самом настрое его философии.
Подмена же состоит в следующем. До Платона философская мысль греков еще колеблется между тем, чтобы рассмотреть φύσις/logoz как истинное имя бытия, и тем самым отнестись с бытию как к сущему, и тем, чтобы двигаться дальше, выше и глубже, и чтобы схватить бытие как уникальное событие (Ereignis), не имеющее в себе ничего от сущего, то есть как Seyn (фундаменталь-онтология). Досократическая философия может быть истолкована двояко. Платон же в этом вопросе ставит все точки над «i», толкуя предшествующую философскую традицию как онтологическую и делая еще один важнейший шаг в этом онтологическом (и теперь уже однозначно не фундаменталь-онтологическом) направлении.
Учение Платона это замена колеблющейся досократической онтологии (проявление бытия – Sein? Seyn? -- через сущее) представлением о бытии как об идее. У Платона бытие становится тем, что помещено перед человеком, и это дает рождение такому явлению, как пред-ставление, Vor-stellung. Человек стоит перед идеей, идеи стоят перед вещами мира.
Этимология слова éäέá связана с визуализацией и берет начало в способности видению (глагол eidw -- «видеть»(43)). На всех уровнях повествования о «пещере» в диалоге Платона «Государство»(44), где им дано впервые развернутое учение об идеях, речь идет именно о «видении» -- вначале теней, затем самих объектов и, наконец, идей. В этой процедуре введения идей в самый центр философского мышления происходит редукция основных операций познания к ясному видению, выявлению идей, которые являются небесными образцами вещей и явлений. Но контакт с идеями предполагает нахождение напротив них – только так можно их «увидеть».
С этого начинается эпоха очень специфического направления в движении рассудка, специфической рациональности, которая с Платона и Аристотеля, становится судьбой западноевропейской философии, предопределяя абсолютно все ее этапы, включая Новое время, а до него Средневековье, а еще раньше позднюю античность.
Для Хайдеггера досократики находились в мире, внутри него, они были сущими среди сущего, мыслящими сущими и мыслящими сущее среди сущего. Такими были древние греки в целом. Кроме того, философы, пребывая в сущем и мысля о сущем, решались на божественный бросок (daimon философов) в сторону бытия (Sein? Seyn?), не порывая до конца связей ни с человечностью, ни с «природностью». И философствуя в удивлении и изумлении (в состоянии чудесного экстазиса в мгновении даймона), они позволяли логосу мыслить сквозь них, давая бытию (Sein? Seyn?) возможность случиться, сбыться через них.
А вот с приходом Платона и его учения об идеях, человек становится перед сущим, он больше не в мире, он перед миром, он vor-gestellt, он пред-поставлен миру, пред-стоит ему. Он не способен больше общаться с сущим, с вещами мира напрямую. Он не может соучаствовать в «несокрытости» мира (то в его досократической «истинности»). Отныне он обречен на то, чтобы постоянно постулировать между всем, перед всем и надо всем идею, дополнительную инстанцию визуализированного образца.
От динамики скрытия/сокрытия и постоянного взрыва бытия в сущем мы переходим к Sein als Idea (бытию как идее), и, соответственно, к дополнительной инстанции, – идее, – которая замещает собой бытие. Самое страшное из того, что совершил Платон было то, что он приравнял идею к Sein. Идея была поставлена на место Sein.
Платон сделал своим «решением» два судьбоносных для западно-европейской философии онтологических жеста: он решил (имплицитно) колебания в вопросе о статусе φύσις в пользу сущего, то есть φύσις как бытие сущего осмыслялось однозначно как сущность (Seiendheit, ousia), а затем отождествил сущность с идей (Платон однозначно говорит о идее как о сущности, ousia). Благодаря этому двойному ходу проход в Seyn-бытие был необратимо закрыт. И хотя сам Платон и примыкающая к нему философия (Аристотель) постоянно ставят вопрос о сущности сущего, то есть не упускают бытие из виду, но отныне речь идет только о Sein-бытии, как о «виде», «образе», «изображении» Seyn-бытия. Онтологическая визуальная копия выдается за Фундаменталь-онтологический оригинал.
Отныне все меняется по сравнению с досократической философией. Истина предстает отныне не как несокрытость φύσις (и, возможно, как несокрытость сокрытого Seyn-бытия – через φύσις и через logoz), но как соответствие (референция). Причем то, чему соответствует сущее, является отныне идее, то есть другим сущим, которое есть как Sein и которая созерцается умом. В этот момент открытая онтологическая (с возможностью быть фундаменталь-онтологической) топика первого прыжка философии окончательно замыкается в верхнем пределе – где располагается идея, и первая из идей, идея блага (kalon).
Именно с этого момента, где еще сияет мысль о бытии сущего, начинается процесс прогрессирующего забвения о бытии (Seinsverlassenheit), становление европейского нигилизма. Проход к Seyn-бытию необратимо завален, и на месте Seyn-бытия поставлено Sein-бытие, как сущность, идея и, следовательно, само сущее. Истина же отныне и до последнего конца философии в ХХ веке мыслится исключительно референциально, то есть как соответствие одного сущего другому (вначале предполагается, что высшему, а затем и просто другому).
На место идеи как Sein последующие послесократические философы могут ставят разные онтологические конструкты. Так, ученик Платона Аристотель, выбирает energia, энергию. Позднее другие философы предпочтут иные аналоги на замещения «должности» высшего сущего. Но сути картины это не изменит. Онтологическая топика после Платона установилась раз и навсегда и остается действительной от конца в рамках первого Начала до самого последнего и окончательного Конца.
Хайдеггер и христианство (платонизм для масс)
Здесь стоит упомянуть об отношении Хайдеггера к христианству. Он часто повторял слова Ницше о том, что «христианство — это платонизм для масс». Что он имел в виду? Откуда у него такое пренебрежительное отношение к христианской культуре с ее сложнейшими интеллектуальными элементами и построениями?
Оно основывается у него на лингвистически-философском понимании теологии(44). Во-первых, семитское происхождение «Библии» ставит ее вне пределов собственно индоевропейского контекста. Для Хайдеггера – это чужое мышление, которое его совершенно не занимает и не впечатляет. Чтобы мыслить библейски, надо быть семитом. Конечно, христианская философия была – причем с апостольских времен – фундаментальной переработкой семитской, собственно иудейской религиозности и теологии, на греческий, индоевропейский лад. Однако Хайдеггер предпочитает идти не по пути выявления несемитских влияний в христианстве, но напротив, отсылкой к безусловным семитским влияниям, снимает проблему вообще. Это, без сомнения, несколько легковесно, но наша задача не состоит в том, чтобы критиковать Хайдеггера, а в том, чтобы понимать его. В структуре его философии семитское мышление просто выносится за скобки.
Иллюстрируя гносеологическую «наивность» библейской философии Хайдеггер буквально воспроизводит фразу, сказанную Богом Моисею на горе Синай: «Аз есмь сый», «Я есть сущий». Пусть даже речь идет здесь о высшем сущем, но, тем не менее, сущем, комментирует Хайдеггер. Тем самым Хайдеггер хочет доказать, что христианская теология остается в рамках сущего, то есть в пространстве онтологии и догматически закрывает саму возможность прорыва к фундаменталь-онтологии(45).
Хайдеггер видел ситуацию с богословием приблизительно так. Бог как сущее не является интересующим истинного философа объектом, ничего не добавляет, а скорее убавляет в онтологической проблематике, так как под видом ее решения через отсылку к высшему и изначальному существу лишь «мистифицирует» всю ту же платоновскую топику и референциальную теорию истины. Схоластика богословие в целом только запутывают проблему отношения бытия к сущему. Вместо этого отношения предлагается просто расположить сущее по иерархии их отварного достоинства, то есть выстроить лестницу ens creatum, заведомо отвечая через апелляцию к креационизму (сотворенности существ Богом) на еще не поставленный вопрос о бытии сущего.
Хайдеггер убежден, что христианская философия целиком и полностью пребывает в плену платоновского учения об идеях и аристотелевской логики, хотя собственно философского развития эти учения в рамках христианства не получают, но лишь обслуживают потребности в обосновании семитской религии, к собственным корням не обращаются, а следовательно, в философском процессе участвуют косвенно и невнятно. Отсюда и ницшеанское: «христианство есть платонизм для масс». Для Хайдеггера это причина для того, чтобы обойти эту область философии стороной, отнестись к ней высокомерно – причина двойная и потому что «для масс» и потому что «платонизм».
Вспомним то, что мы говорили о философском даймоне. По сравнению с дофилософскими (гомеровско-гесиодовскими) греками жившими мыслящими в сущем и в мифе, философы открыли область иного чуда. Эта область мы назвали философским даймоном, то есть пространством вопрошания о бытии сущего или точкой наблюдения за человеком (как мыслящим мыслимое) изнутри. Это – сфера логоса, где он высвечивает все сущее как единое (en), как φύσις. On (сущее) и en (единое) сближаются и почти отождествляются друг с другом и у Парменида и у Аристотеля.
Это измерение – место философского даймона («бога», numen) -- в досократический период занимается бытием как колебанием между Sein и Seyn. После Платона выбор делается однозначно в пользу Sein, причем Sein почти открыто отождествляется с сущностью (ousia), с идеей и , соответственно, с сущим. Так, на рискованное место прыжка в бездну вопрошания, учрежденное даймоном удивления, особым типом внутренней, философской сакральности (отличной от дофилософской сакральности священного сущего), ставится онтология. Эта топика, в которой мерцал выход в Seyn, заблокированный после Сократа и Платона учением об идеях, всеобщим «пред-ставлением» (Vorstellung), сохранялась вплоть до Конца философии.
Христианская теология, по Хайдеггеру, есть не что иное как эпизод в укреплении этой постплатонической топики, где на место философского даймона, а позже платоновской идеи ставится фигура семитского Бога-креатора. Цикл христианской философии, таким образом, помещается между двумя философскими периодами, – поздняя Античность и Новое время, -- место же, конституированное философским даймоном для прыжка в Seyn-бытие, сохранялось (хотя проход оставался прочно заваленным и заваливался все больше и больше) в приблизительно одинаковом состоянии, и когда влияние христианства сошло на нет («Бог умер», по Ницше), неизменность онтологической топики прояснилась наглядно: оказывается в философском смысле христианство не дало совершенно ничего нового и лишь отложило на полторы тысячи лет процесс откровенного и последовательного мышления.
Временно на месте философского даймона побыл схоластический Бог-креатор, но потом снова покинул этот философский топос, уступив его «идолам» Нового времени – субъекту, объекту, духу, материи, технике, ценности, мировоззрениям и т.д.
Вот, что значит выражение «платонизм для масс».
Декарт: наука и метафизика Нового времени
Новое время Хайдеггер оценивает двояко. С одной стороны, это очень значимый поворот (Wendung), который в его глазах представляет собой новое обращение к тому философствованию, которое было до наступления христианства, и следовательно, онтологическая проблематика стала осмысляться более четко, строго и последовательно без видимого спокойствия схоластического «платонизма для масс». Мысль размораживается и снова оказывается в схематической топологии платоновско-аристотелевоской метафизики без отсылок к креации и ее градусам.
С другой стороны, Новое время вместе с Декартом, Лейбницем, Кантом и т.д., полностью наследует именно платоновское интеллектуальное поле, а следовательно, в нем нет принципиально ничего «нового». Более того, схоластическая пауза длительностью в полтора тысячелетия, только усугубило забвение о бытии (Seinsverlassenheit), и новые издании онтологии в мышлении Нового времени повторяют платоновские схемы, только ставя на место идеи новые «представления» -- субъекта, апперцепцию, энергию, действительность, монаду и т.д. Причем каждая новая сущность -- категория или концепт – лишь усугубляет забвение о бытии, отвечает на вопрос о бытии все более формально, отчужденно, все более углубляется в сферу пред-ставлений и, соответственно, уплотняет исключительно референциальную теорию истины.
Когда Декарт обосновывает метафизику Нового времени с опорой на субъекта, которого он в строгом смысле и вводит в магистральное русло западно-европейского философствования, он в каком-то смысле снова имеет дело с «даймоном философов», но только уже не в открытой оптике первого Начала (с его сохраняющейся вероятностью прыжка в фундаменталь-онтологию) и даже не в забаррикадированной от Seyn-бытия, но все же двухмерной топике платонизма, где идеи еще несут на себе след изначального полета («идеи, говорил Платон, либо парят либо умирают»), но в пространстве сугубо человеческого мышления (здравого рассудка), где на том же самом этаже под топос философствования и, соответственно, под точку наблюдения за мышлением человека, отводится определенное место – это место и есть субъект. Так даймон философов оказывается запертым в человеке, в его «внутреннем» измерении, которое в таком виде складывается только вместе с Декартом. Это и есть субъект, res cogens, выносящий суждения о том, что есть и том, чего нет. В конечном счете, метафизика сводится к метафизике ego cogens (мыслящего «я»), которое и выносит утверждение о том, что является сущим, истинным и т.д.
В такой декартовской системе координат платонизм распадается до самой своей мелкой возможности, где Sein-бытие от идеи спускается к субъекту (cogito ergo sum, означает, что бытие становится функцией –ergo—от мыслительной деятельности субъекта, от его гносеологии). То, от чего отталкивалась философская мысль досократиков, взлетая даймонические миры логоса, то есть человеческое мышление, становится местом, куда снова возвращается изначальный порыв на последнем этапе западно-европейской философии и ее Geschichte.
Декарт, по Хайдеггеру, хорош своей честностью, откровенной ничтожностью своей примитивной онтологии, своим ссохшимся скудоумием. В этом Хайдеггер читает саму судьбу бытия, которая не став в первом Начале сконцентрированной на Seyn-бытии, не могла в определенный момент не снизойти до топики субъекта. Картезианский поворот и метафизика Нового времени, впрочем, все та же метафизика, что и в эпоху Платона или торжества схоластики. Но на сей раз она вступает в фазу активного распада, кода обнажается ее внутренний скелет.
Очищение этого скелета от псевдо-онтологических напластований и пустых недофилософских и псевдофилософских вывертов для Хайдеггера есть очень важное событие. С Декартом западно-европейская философия делает решительный шаг к своему Концу.
Утвердив в центре своей онтологии субъекта, Декарт помещает все остальное перед собой (в область пред-ставленного), но теперь это сущее (ранее φύσις, позже ens creatum) мыслится как им как объект. Введение субъекта неминуемо влечет за собой объект, как то, что ему предстоит. У Платона идеи и вещи располагалась вертикально, у схоластов Бог был над миром, у Декарта субъект и объект оказываются на одной и той же плоскости -- хотя источником онтологического суждения является именно субъект, какой бы член этой пары субъект-объект мы ни взяли, мы автоматически сразу получаем второй. Учреждая субъект, в сферу объектного падает все остальное. Если начать мыслить со стороны объекта (как предлагали средневековые номиналисты, позже эмпирики – такие как Ньютон, позже философы Локк, Юм и т.д., вплоть до материализма), то мы также с неизбежностью придем к субъекту, как к зеркалу поставленному перед объектом.
По-русски объект — это пред-мет. Славяне (впервые поляки – przedmiot) скалькировали для себя с латинского это слово, чтобы передать ob (перед, пред) и jectum (брошенное; то, что метнули – от jacere – бросать, метать). Объект — это то, что перед нами. Те, перед кем метнули нечто, и есть субъект. Но это субъект имеет важное отличие от просто человека или человеческого мышления, этот субъект конституируется научно, то есть в ходе философского наблюдения за развертыванием мысли. Это рефлексирующая мысль, лежащая в основе современного понимания науки. Субъект – это центр науки и одновременно то, что созидает эту науку. Поэтому в Новое время именно наука заменяет собой место религии. Отныне именно она является диспозитарием суждений, которые признаются истинными и более того, именно наука берет на себя функции выносить декреты о том, что есть сущее, а что не есть.
Точно также тем же самым жестом наука конституирует и объект; объектом становится то, что рассматривает субъект и что он признает существующим. Быть сущим и быть объектом сливается в одно, откуда в наш бытовой язык входит синонимическое использование понятий существует и является объективным. Все существующее объективно, все объективное существует. Необъективное не существует или существует как погрешность, ошибка, заблуждение. Референциальная теория истины возводится в гносеологический абсолют, но в границах науки Нового времени это полюсами референции становятся субъект и объект.
В этом Хайдеггер видит ясный признак нигилизма. Научное мышление есть одна из самых крайних форм нигилистического мышления, то есть такого мышления, где вопрос о бытии сущего не просто не ставится, но не может быть поставлен.
Здесь важно заметить следующее. В науке Нового времени несмотря на видимость отстраненности от трансцендентного измерения (платонизма ли схоластики ли) и спуска внимания к конкретно сущему, продолжают в полной мере действовать основные законы метафизики, которая надстроила еще в древней Греции над сущим еще один, дополнительный этаж. Наука это мышление в рамках двух сущих, точно так же как и в прежних формах идеалистического или религиозного трансцендентализма; этими двумя сущими являются область онтического и область онтологического, и место онтологического занимает сама наука Нового времени. Топика научного мышления есть топика классической метафизики, хотя оформленной радикально по-новому.
Vorsetzende Durchsetzung
От Декарта Хайдеггер тщательно прослеживает линию искусственного выстраивания научной и философской онтологии Нового времени далее – к Канту, немецкой классической философии и наконец, к Шопенгауэру, Кирхегору и Ницше. Каждый шаг приближает нас к Концу философии.
Субъектный характер онтологического аргумента, особенно после фундаментальных кантовских исследований структур чистого разума и обнаружения неспособности рассудка вынести достоверного решения относительно бытия вещи-в-себе, приводит к осознанному примату воли, как главного механизма конструирования сущего. В явной форме это наличествует у Шопенгауэра, и наконец, Ницше возводит волю – как волю к власти -- в высшую форму идентичности.
Уже в практическом разуме Канта воля – пока в форме категорического императива – выступает в качестве главного морального начала, ответственного за утверждение бытия объекта, субъекта и «Бога». А дальше эту кантовскую мысль развивает вся немецкая классическая философия от Фихте и Шеллинга до Ницше.
Хайдеггер для описания последнего сегмента западно-европейской философии, осознанной в оптике Seynsgeschichte, использует специфическое выражение –vorsetzende Durchsetzung, что можно весьма приблизительно перевести по смыслу как «пред-намеренное навязывание». Речь идет о том, что человек, который пошел по пути пред-ставления (Vor-stellung, или Vor-setzung, что означает буквально «ставить перед собой», «заведомо фиксировать», «заранее прибавлять»), все больше удаляясь тема самым от бытия (Sein), постепенно полностью утратил живой контакт с сущим (Seiende), пока не оказался в онтической пустоте. В невротическом диалоге с этой пустотой он стал забрасывать ее, захламлять определенными представлениями, выработанными в пространстве онтологической топики. То есть, он обращался к области «идеи» (ставшей концептом, субъектом, объектом, категорией, ценностью и т.д.) и далее навязывал это сконструированное (онтологическое, метафизическое, позже, научное) сущее непосредственно окружающему сущему, не особенно считаясь с ним и его экзистированием. Чтобы иметь дело с сущим, ставшим объектом, человек, начиная с какого-то момента, был вынужден «заведомо навязать» это сконструированное нечто сущему, замостить пустоту содержанием своего пред-ставляющего рассудка и навязать эти пред-ставления с помощью воли, чтобы потом с этим разбираться, повторяя подобную операцию до бесконечности.
В осмыслении установки на «преднамеренное самонавязывание» для Хайдеггера состоит постижение сути фундаментального движения философской мысли в ходе ее развертывание. Западно-европейская философия и есть прогрессирующий vorsetzende Durchsetzung, движущийся от досократического полюса к нигилизму ницшеанской воли к власти через стадии отчуждений платонизма, схоластики и картезианства.
Опредмечивание вещей
В ходе развертывания процесса «преднамеренного самонавязывания» (vorsetzende Durchsetzung) происходит опредмечивание вещей (Vergegenstandlichung der Dingen).
Здесь очень важно понять, что такое «вещь». В немецком языке, как и в русском, слово «вещь» (немецкое «Ding»(46)) несет в себе сходный – и весьма священный смысл. В русском языке вещь — это весть, это нечто вещее, это то, что вещает в мире, где сущее почитается как священное. Вещие вещи вещают в сущем, а вот через представление, — когда они становятся опредмеченными, — эти вещие вещи перестают вещать, утрачивают священное содержание, деформируются, ускользают (убегают) или, по меньшей мере, жестоко втискиваются в людское (точнее, онтологическое, философское) представление о них. Но люди не довольствуются лишь опредмечиванием уже существующих вещей, они всё больше и больше впадают в одержимость Vorstellung (представлением, предстоянием) и волей, принимаются дублировать естественные вещи искусственными, «вещами-двойниками», «вещами-тенями», создавая такое рукотворное сущее, которое все ближе и ближе к их представлению. Поэтому они начинают заменять Aufstellung, то есть природное, прирожденное, рождаемое нечто -- Herstellung, — искусственным продуктом.
Человек ввергается в технику как в судьбу, и двигается в обратную сторону от бытия (Sein как Seindheit). Сущее теряет неопределенно тонкую связь с бытием (как c Sein быть может выходящее в Seyn) уже у Платона, потом сущее превращается в нечто произведенное. В конечном итоге, поскольку бытие забыто (Seinsverlassenheit), — сущее оказывается порабощенным и замененным на то, что произведено искусственно. Предметов становится все больше, вещей все меньше. Наступает диктатура производства (Herstellung)
Русский язык – язык в значительной степени онтический. Когда мы говорим «производим», это означает «помогаем природе», «выводим из нее», «из-водим». Что-либо произвести — означает вытолкнуть откуда-то (например, из бытия-Sein ). В русском для понятий Aufstellung и Herstellung есть только одно слово – «произведение». Немецкое же Herstellung означает «выставить (вовне)», «вынести перед», причем искусственным волевым образом. У нас даже промышленное производство мыслится как какое-то почти магическое, мистериальное действие. Например, у Андрея Платонова (47) пролетариат копает котлован, соборно совершая великий национальный архетипический жест. Непонятно для чего копают, — дом все равно не будет построен, никто его и не планирует строить, — но копают все и с фундаментальной убежденностью в необходимости этого делания. Другие герои Платонова душевно беседуют с паровозами, моторами, станками, ощущая промышленность как гигантский живой организм (хотя и имеющий несколько инфернальные черты). У русских даже техническое производство понимается (точнее, понималось до недавнего времени) с определенной долей сакральности, поэтому нам трудно представить себе опредмеченную вещь или предмет в чистом виде – для нас вещи все еще вещают (хотя все тише и тише, это правда).
Гегель: порыв «Большой Логики»
Хайдеггер большое внимание уделяет философии Гегеля. С его точки зрения, Гегель пытается вырваться из тисков обреченной проблематики дезонтологизации. Он впервые среди всей философской западноевропейской традиции пытается противостать логике Аристотеля, о которой Кант говорил, что за две тысячи лет никто в нее ничего нового не внес, никто ничего не смог в ней изменить, усовершенствовать или предложить нового. Гегель в гениальном порыве пытается создать свою, иную, альтернативную логику, где опровергался бы второй закон формальной логики -- закон исключенного третьего.
Для Хайдеггера это гениальный опыт, представляющий собой вершину западно-европейской философии. Но Гегель остается в категориях концепта, где сущее порабощено рассудку и не способно освободиться от «преднамеренного самонавязывания» (vorsetzende Durchsetzung). Гегель делает в рамках Vorstellung максимум из того, что можно было сделать. Больше сделать нельзя. Пока ночь не дойдет до точки полночи, утру наступить невозможно, потому бедный Гегель предстает пред нами своего рода утренним мыслителем, который проснулся среди ночи и действует так, как если бы уже было пора делать зарядку.
Хайдеггер восхищен Гегелем, но при этом считает, что это не прорыв к фундаменталь-онтологии, а порыв к ней, так как концептуальное мышление как сетями обволакивает движение гегелевского духа, всякий раз уводя от самого острого момента, чреватого взрывом.
Колоссальная заслуга Гегеля в том, что он переходит от истории к истории философии, убедительно показывая, что исторический процесс есть ничто иное как развертывание концептов, работа «мирового разума», который либо ясно, либо прикровенно не просто предопределяет логику событий, но сам по себе есть единственное содержание мировой истории человечества, которое должно быть считано субъектом в эсхатологическом моменте «конца истории». Гегель по сути со всей откровенностью восстанавливает в своих правах платонизм, подвергшийся стольким искажениям в течение двух с лишним тысяч лет. Он говорит об истории не только как об истории философских идей, но как о истории Идеи, Абсолютной Идеи, трансформации которой составляют всю ткань западно-европейского исторического бытия (имеется в виду в его философский период от досократиков до Нового времени). Гегель поднимает вопрос и о бытии, и о ничто, и об отрицании, и о диалектике, восстанавливая в значительной степени онтологическую проблематику греков, но только в конечном, постплатоническом, сугубо метафизическом контексте. Гегель подытоживает западно-европейскую метафизику, в ее наиболее совершенном виде. Но весь этот процесс новой постановки вопроса о бытии (Sein) не только не выводит нас на горизонт переосмысления онтологии, но окончательно выкорчевывает возможность помыслить сущее и бытие (Sein) вне интеллектуалистского контекста западно-европейской метафизики.
Стремясь ответить на трудные вопросы кантианской критики чистого разума, Гегель лишь исчерпывает номенклатуру ответов на онтологические вызовы нигилизма через формальное повторение досократических тезисов (Парменид, Гераклит) в топике постплатоновской философии. Он вглядывается в первое Начало, но повторяет его проблематику в рамках Конца.
От Гегеля до Ницше – один шаг.
Ницше и Конец философии
Заканчивается западноевропейская философия на Фридрихе Ницше, который называет все вещи своими именами. Хайдеггер посвятил философии Ницше несколько томов текстов(48), и этот мыслитель представляется Хайдеггеру самым значительным и самым крупным для Нового времени, а то и для всей европейской философии. Это вполне объяснимо: для Хайдеггера Ницше – последний философ и в таком качестве его значение трудно переоценить. На Ницше заканчивается то, что началось при досократиках. Он по своему весу и значению является ключевой фигурой, так как Конец философии в значительной степени объясняет нам ее Начало, проясняет его, помогает понять, что в этом Начале началось, и как случилось так, что начавшись, это пришло к Концу и к какому Концу?
Ницше утверждает: ничего кроме субъектности не осталось, смысл субъектности в воле, в самонавязывании. Бытие уже больше даже не идея, бытие — это просто ценность, становление, жизнь, воля к власти. Одним словом – это произвол субъекта. Именно потому, что бытие стало функцией от ценностей, мы находимся в пространстве тотального нигилизма, мы утратили абсолютно всё, что ранее соединяло нас сущим и самими собой.
По Хайдеггеру, Ницше не преодолевает в своей философии западно-европейской метафизики, он ее продлевает, он пытается ее спасти. Ницшеанская критика Платона, его обращение к досократикам, его борьба со статической онтологией, закрывающей доступ к потокам живого начала, все это не выводит его на новый виток, не приближает к реальному преодолению западно-европейской философии, но подытоживает ее, подводит по ней могильную черту. Пытаясь преодолеть западно-европейскую метафизику Ницше пытался, на самом деле пытается спасти ее. Переоценка всех ценностей, воля к власти, жизнь, сверхчеловек, вечное возвращение – все эти ницшеанские предложения, согласно Хайдеггеру, представляют собой агонию философской мысли, бьющейся в силках однажды неверно установленной топики, где прорыв в бытие был необратимо закрыт всей ее структурой. Но в отличие от своих прямых предшественников – Канта, Гегеля, Шопенгауэра – Ницше по-настоящему рвется преодолеть все это, жаждет прорваться к новым горизонтам, но фатально остается в пределах старых. Это и есть Конец. По своему масштабу, по своему трагизму, по своему интересу к Началу, по своей рискованности – сопоставимый со всем процессом западно-европейского, закатного, вечернего философствования. Ницше – достойный Конец.
Ницше – стражник, возвестивший о наступлении полночи. «Сторож?! Сколько ночи?» - «Скоро утро, но все еще ночь».(49)
Ницше провозгласил: пришли настоящие «скудные времена», «Бог умер», наступает полночь мира. Говоря о том, что «полночь на дворе», Хайдеггер добавлял в тексте «К чему поэты?» (перевод которого мы приводим в этой книге): «Уже полночь, а может быть, “всё еще нет”, всегда это “всё еще нет”».
Мы вернемся к этому «всё еще нет» чуть позже, а пока давайте рассмотрим, почему происходит забвение о бытии?
Глава 6. Seynsgeschichtliche антропология Хайдеггера
Вина человека
Вопрос о том, почему происходит забвение о бытии, то есть вопрос о причине Seinsverlassenheit, как о главном содержании историко-философского процесса, выводит нас на очень глубокий уровень анализа и сталкивает напрямую с проблемой человека, с антропологией, в том ключе, как ее рассматривает Хайдеггер.
В одной из своих работ 1935 года «Введение в метафизику»(50) Хайдеггер напрямую задается вопросом: почему судьба бытия обращена идет от бытия? Почему происходит забвение? Что стоит за появлением платоновских идей и движет философию в сторону ее Конца? Что лежит в основе Конца? И соответственно: почему полночь?
Когда смысл темен, философы часто обращаются к поэтам. Поэты ничем не ограничены и всегда снабжают философов тем, чего им принципиально и жизненно не хватает. И в этом случае Хайдеггер обращается к Софоклу, к тому в его трагедии «Антигона»(51), где хоры, символизирующие сущее (Seiende), поют так:
|
Дословный перевод Хайдеггера |
|
|
Хор
Строфа I
Многое ужасно (polla ta deina), но ничего более ужасного (deinotaton), чем человек, поднимаясь, не поднимается. Он выходит в пенистые от зимнего южного ветра волны моря и пересекает его в бурно вздымающихся валах. Самое высокое из божеств, Землю, неуничтожимо неусыпающую, он постоянно исчерпывает, возвращаясь из года в год, чтобы пахать и перепахивать ее со своими лошадьми и плугом.
Антистрофа I
Стаи легко летящих птиц он улавливает в свои сети, и охотится на племена животных из диких стран и на то, что живет и действует в море, он, человек хитроумный.
Он хитростями главенствует над зверем, что ночует и бродит на холмах и коню с густой гривой и непокорному буйволу одевает древесное ярмо.
Строфа II
В звучании слова и легком всеведении подобно ветру он, в конце концов, обретается и в городах, где его убежище. И придумал он, как спасаться там от открытости бурям и пронизывающему граду. Обретая опыт на всех дорогах, он безнадежно неопытный, ни к чему не приходит. Лишь от одной неизбежной смерти он никак не смог укрыться, пусть даже удалось ему ускользнуть ловкостью от целого ряда тяжелых болезней.
Антистрофа II
Он создатель благодаря навыкам (tecnh), у него есть несравненное мастерство, иногда из этого получается низость, а иногда отзывается чем-то весьма ценным. Между положением земли и порядком, предписанным богами он следует по своей дороге. Главенствующий поверх места, исключенный из места, -- таков он, кому всегда неблагое (не-сущее) благим (сущим) представляется из-за дерзких его деяний.
Да не будет он принят у моего очага, И да не будут его иллюзии разделяемыми в моем знании, о человек, который все это творит. |
|
Хайдеггер видит в этих хорах сущего, краткое описание всего историко-философского процесса, то есть формулу западной метафизики. Именно потому, что человек, по меньшей мере, греческий человек, западно-европейский человек, таков, каким его описывает Софокл проистекает все остальное.
Человек, будучи сущим, выпадает из общего строя сущего, выделяется из него, отпадает от него, представляет собой нечто уникальное, особое и несущее в самом себе катастрофу.
С одной стороны, он также «ужасен» как все сущее. Ужасен надо понимать в изначально греческом смысле, настаивает Хайдеггер. Так мы переводим греческое deinon (deinoz). Хайдеггер толкует это как «насильственный», «навязывающий», «агрессивный», «подчиняющий». Стихии сущего тоже ужасны – среди них есть буря, град, смертельные заболевания, дикость, неукротимость, агрессия, риск, угроза. Но человек, разделяя со всем сущим, это свойство именно в нем превосходит все остальное. Многое ужасно, но человек всего ужаснее. В этом и состоит его особенное положение – он ужаснейший из ужасного, он самый агрессивный из всего агрессивного, он самый подчиняющий среди всего подчиняющего.
Более того, он делает из этой агрессивности свою судьбу. По Хайдеггеру специфический deinon человека полнее всего запечатлен tecnh, в технике, способности создавать особое сущее, конторе служило бы ему полнее, чем то сущее, которое он починил, укротил, поставил под контроль.
Способность создавать сама по себе нейтральна относительно блага и зла, но во всех случаях эта способность основана на агрессии, навязывании и ужасе, так как является качественным сосредоточием именно этого начала.
Вместе с тем, deinon в определенном смысле есть dikh, то есть высший закон, высший порядок, которому подчиняется все сущее. Dikh Хайдеггер интерпретирует как jusiz и как logoz, то есть как бытие сущего. Dikh навязывает себя всему в масштабе сущего, а человек навязывает сущему самого себя через tecnh, что приводит к фундаментальному противостоянию человека с бытием. Человек через tecnh как выражение deinon противопоставляет себя deinon как выражению Dikh. Именно поэтому человек становится «ужаснее» всего сущего. В сущем больше нет такой точки, где столкнулись бы два ужаса – ужас бытия сущего и ужас – в каком-то смысле – копирующего его человека. Эта точка есть точка раскола в сущем. Человек как раскалывающееся сущее представляет собой место, где происходит вторжение ужасающей мощи бытия (Sein или Seyn – это пока не прояснено). Но проявляясь таким образом, оно откалывает человека от остального сущего.
Будучи высшим в сущем и главнейшим из сущего, стоящим над сущим, он вместе с тем исключен из сущего, изгнан из него. Он не принят у «очага» сущего, выброшен из того, что составляет знание сущего о нем самом.
tecnh как западно-европейская судьба
Истоки судьбы западно-европейской философии следует таким образом искать в корнях европейской – греческой – антропологии. Человек в своей основе таков, что он обречен на конфликт с сущим и, косвенно с бытием, которое является порядком сущего, его логосом. Но тем самым человек обречен и на конфликт с самим собой, коль скоро он тоже есть сущее и выражение его порядка. Но этот порядок сущего (его бытие) в человеке обнаруживается принципиально иначе, нежели в остальном сущем. Хайдеггер подходит к тому, что в человеке «слишком много бытия», а именно это и проявляется в том, что в нем слишком много мощи и ужаса, направленных на преодоление сущего, за выход за его пределы. Этот выход – попытка прорваться к бытию сущего.
Сама эта попытка составляет суть бытия человека.
Мышление есть свойство человека. Именно оно отличает его от остального сущего. Человек способен остро отличать в сущем одно от другого – то есть мыслить онтически -- потому, что он сам отличен от сущего, потому, что занимает в отношении его особую позицию – как переводит Хайдеггер Софокла: «главенствующий поверх места (сущего), помещенный вне места». Таким образом, уже в самом факте мышления заложена возможность стать брешью в сущем. Однако до определенного момента человек не берется сделать из этого все выводы. Он довольствуется различением того, что вокруг него, укреплением своей позиции, хотя его периодически и бросает из стороны в сторону в попытках дойти до края сущего, сразиться с ним как с сущим в целом. В определенный момент в ходе освоения границ собственной свободы и собственной дистанцированности от сущего человек открывает tecnh -- способность самому создавать сущее, что позволяет обрести над ним еще большую власть и различать в сущем еще более отчетливо и достоверно. Через tecnh человек подходит к последней черте, за которой открывается горизонт прыжка – за пределы человеческого, в то место, которое мы ранее определили как «даймонический топос». В этом прыжке человек и себя самого причисляет к сущему, то есть дистанцируется и от самого себя. Тем самым он осуществляет максимально возможное насилие, подрывает последнее основание для того, чтобы оставаться в сущем – когда он мыслит себя как сущее также, как он ранее мыслил сущее (противопоставленно самому себе), то он конституирует новое место, которое в некотором смысле больше не находится в сущем. Этим местом может быть только бытие – причем бытие как не-сущее (Seyn als Nichts).
В этом жесте и начинается философия. Но при этом tecnh становится не одним из проявлений человеческой дистанцированности, но осмысляется как судьба человека, как главное в нем, как Seynsgeschichte. В прыжке вы небытие человек сам становится «произведением», «средством», чем-то техническим. И заложенный в бытии (Seyn=Nichts) потенциал у-ничто-жения начинает свою долгую работу против сущего, и в том числе и против человека как сущего. Поэтому-то Хайдеггер отождествляет tecnh с судьбой и видит в этом проявление онтологических глубин самого человека как явления Seynsgeschichte.
Но не всякий человек делает этот жест в сторону полного и окончательного принятия на себя ответственности за двойное дистанцирование – и от сущего и от человека как части сущего. В этом направлении делает выбор только греческий человек эпохи становления философии. И с этого начального момента прыжок, двойная топика, даймоническое место и tecnh становятся его вечерней судьбой. В конечном счете, уже этот первый жест по осознанию себя брешью внутри сущего, открывает путь постепеному становлению западно-европейского нигилизма, росту «пустыни».
Свобода и воля
В сердце этой катастрофы западно-европейской судьбы лежит глубочайшая истина человеческой свободы. Дело в том, что бытие обнаруживается в человеке совершенно иначе, нежели во всем остальном сущем. Человек живет в бытии, и дом его — бытие, а не в сущее. Будучи сущим, он не у себя дома среди сущего, это не его дом. Его реальный дом — бытие, поэтому он и ведет себя так отвратительно, будучи погруженным только в сущее.
Бытие, приведшее человека к наличию и поддерживающее его в наличии до момента смерти, одновременно бросающее его на произвол, пребывает в нем особым образом. Оно выражается в его особой позиции – в воле. Человек ставит себя перед сущим и навязывает себя сущему через свою волю. Тем самым он идет к замене сущего сотворенным, техническим. В этом его воля. Человек есть существо волящее. Такое отношение человека к бытию и бытия к человеку составляет исток vorsaetzende Durchsaetzung («преднамеренного самонавязывания»).
Порыв от сущего к бытию как исток философствования есть отзвук в глубине человека бездонной свободы бытия. Нападая на след самой возможности этого порыва человек вступает в самую рискованную зону своей сути – он бросается в бытие. В первом Начале бездонность свободы набрасывает высший риск перспективы полета над бездной. Становясь чужим в сущем и осмысляя это как свою судьбу вопреки судьбе сущего, человек начинает философствовать. Вместе с тем такой порыв – реализация высшего насилия над сущим и над самим собой: человек отныне необратимо чужой в сущем, а обретет ли он свой дом в бытии – большой вопрос. В этот момент он первые становится человеком, так как возникает место, с позиции которого можно сказать «ecce homo», «се человек» -- указывая на самого себя откуда-то изнутри (даймонический топос). Но вместе с тем, строго в тот же самый момент, человек перестает быть человеком просто, начинает быть человеком философствующим, человеком с судьбой, соотнесенным Seynsgeschichte. И отныне он не свободен от своей свободы, и обречен на философское мышление вопреки всем попыткам или аппетитам соскользнуть назад – к мышлению просто, к онтическому. Опознав себя как человека, как сущее в человеческом, человек делает действительной молнию логоса. В некотором смысле, сверхчеловек впервые появляется именно в этот момент – в момент обнаружения логоса. И не случайно Гераклит говорит нам об этом: ««Если вы прислушаетесь не ко мне, но к логосу, мудро будет в нем пребывая сказать: все едино». «Не ко мне, но к логосу». Философия не дело Гераклита как человека, это дело логоса, и только к нему надо прислушиваться, это он философствует и он по-настоящему рискует.
И здесь открывается миг высшего решения – до какой границы дойдет человек по пути логоса? Как распорядится своей бездонной свободой, отвоеванной в предельной концентрации взятого на себя ужаса бытия и как его приоритетного получателя (через смерть) и его носителя и вдохновителя всем остальным (через волю и мощь)?
Сегодня мы знаем ответ. Древние греки, начинающие философию, этого не знали. И идя туда, куда они не знали сами, ужасаясь и изумляясь, они создали уникальное по своей трагичности произведение искусств – западно-европейскую историю, историю вечера мира.
Как мы уже не раз говорили, у Платона и Аристотеля колебание между Sein и Seyn однозначно решается в пользу Sein, то есть как Seiende-im-Ganze, Seiendheit. А это значит, полет в прыжке был прерван и сама стихия прыжка в бездну подменена искусственно созданным разбитым лагерем, стоянкой где-то на полпути между оставленным домом сущего (онтическое мышление) и истинным домом так и не обретенного бытия (Seyn, фундаменталь-онтология). Но воля как трагическое изгнанничество из сущего, как блуждание по всем дорогам в заведомо неправильном направлении, как насилие и деструкция все равно стала судьбой человека. Всегда склонный к буйному разрушительству человек поставил это разрушительство на плановую основу. Застыв в промежуточной стоянке, он интенсифицировал техническое разрушение сущего и его искусственную подделку, и вместе с тем продолжил войну с dikh как с бытием сущего, сняв с повестки дня продолжения броска к бытию (Seyn).
Tecnh стало двоякой судьбой человека: он стал превращать своей волей сущее в произведенное и, соответственно, сам (как сущее) становился все более и более машинным (откуда Ламетри с его человеком-машиной), а с другой, бытие стало для него вопросом «техники» мышления, с помощью чего тот укреплял баррикады перед лицом опасных вопросов о смерти, ничто, бездне и Seyn.
В метафизике Нового времени и с введением Декартом субъекта и объекта этот процесс достигает пика. Отныне есть только рассудочный представляющий и волящий субъект, и перед ним объект, «res extensa», пред-мет, Gegenstand. Происходит окончательное о-пред-мечивание вещей.
Хайдеггер называет это специальным термином – Machenschaft. Он образован от немецкого корня Machen, делать, откуда также понятие Macht, власть, мощь, могущество. В русском власть и могущество мыслятся как нечто из области воз-можного, потенциального, что может быть, а может и не быть. Немецкие слова machen, Macht и Machenschaft связаны, напротив, с действительностью, действием, актом, с тем, что не только может проявить себя или навязать себя, но что себя уже в данный момент проявляет и навязывает. Это активное и действующее воление, действие, деяние, акция, активность. Возможно на Хайдеггера в выделении этого ряда слов повлияло созвучие немецкого корня с греческими корнями to macanoen и mecanh; первое означает борьба, битва, агрессия, атака, в переносном смысле «махинация», а второе -- механическое изобретение, машина. Machenschaft – абсолютизированное tecnh, взятое уже не имплицитно, а эксплицитно в качестве позитивной программы для человека и человечества.
В этом низшем прагматическом опредмеченном безумии производства, которое захлестнуло Запад Нового времени Хайдеггер видит все тот же изначальным антропологический жест древне-греческой реализации высшей и ничем не ограниченной свободы. Человек опустился до производственной френезии, до утилитаризма, прагматизма и материализма именно потому, что он в свое время обратился к истокам своей человечности (к своей сверхчеловечности) как чего-то отличного от сущего, обрел свою судьбу в логосе и воле, выстроил метафизическую топику отношения к миру и референциальную теорию истины. Поэтому в предельном нигилизме современного катастрофического состояния, в полной и кромешной оставленности бытием (Seinsverlassenheit) говорит глубинная тайна отношений человека с бытием, судьбинная история его восстания за пределы сущего и его падения в нигилизм. Но все это не просто акциденции кого-то кто соучаствует в самостоятельном ходе чего-то отличного от себя – человек сам строит и определяет себя перед лицом бытия (Seyn), которое никогда не дает о себе знать прямо – через сущее или через смерть, но которое может случиться, произойти с человеком, а может и не произойти.
В этом фундаментальность отношений бытия и человека: бытие для человека есть нечто случайное. И в то же время бытие нуждается в человеке: чтобы мгновенно случайно и причудливо открыть в его расколотости, отколотости и трагической смертности самого себя.
Воля человека, таким образом, есть его судьба и само бытие, которое выражается во всех этапах западно-европейской истории – через fusiz, idea, yuch, субъекта, объекта, концепт, ценность и наконец, Machenschaft.
Почему так? Потому, что бытие не есть сущее, а значит, оно есть ничто. И раз в великом Начале оно открылось как бытие сущего, то в Конце оно открывается как ничто из сущего. Таким образом, человек в основе своего воления волит ничто.
Солнце клонится к ночи не потому, что кто-то или оно само совершило ошибку, просто свет выражает себя через свет и тьму, а день переходит в ночь, чтобы наступил новый день. Уже в первом Начале западно-европейской философии проявляется бытие как воля и движет Seynsgeschichte к точке полуночи.
Глава 7. Другое Начало (die andere Anfang)
Предпосылки другого Начала
Так постепенно мы подошли к главной теме философии Хайдеггера, которую он сам назвал другое Начало (или второе Начало).
Три не издававшиеся при жизни работы Хайдеггера, состоящие из набросков к курсам, лекциям, другим работам, посвящены непосредственно теме нового Начала. Это «Вклад в философию (о Ereignis)» (52), «Geschichte des Seyns» (53) и «О Начале»(54). Все они написаны между 1936 и 1956 годами, как раз в тот период, когда Хайдеггер мыслил о теме Ereignis, имеющей самое прямое отношение к теме второго Начала. В этих нестрого оформленных фрагментах мысль Хайдеггера видится намного более отчетливо и ясно, нежели в отточенных стилистически текстах. В них видны вопрошания, колебания самого Хайдеггера, процесс подыскивания подходящих слов и выражений.
Мысль о втором Начале во всех трех книгах стоит в центре внимания автора. Именно она делает по-настоящему пронзительными и те темы, которые Хайдеггер рассматривал ранее до середины 30-х (включая Sein und Zeit) и те темы (в основном касающиеся языка и постоянные сюжеты, связанные с древне-греческой мыслью), которые он приоритетно разбирал позднее, после окончания Второй мировой войны и краха Третьего Райха. Второе Начало – это то, чем сам Хайдеггер считал свою философию, свою мысль и самого себя. Это то, с чем он полностью отождествил свою философскую, человеческую судьбу.
Как мы видели, первое Начало, которым является философия досократиков (в первую очередь, Анаксимандр, Гераклит и Парменид), закладывание основ философии как таковой и определение судьбы всей западно-европейской истории более чем двух тысячелетий, представляет собой уникальный переход от онтического к онтологического, от просто человеческого мышления – к мышлению о человеке как особом сущем и принятию полной ответственности за судьбу такого перехода; что означает ответственность за человека, его бытие, за бытие как таковое. До Анаксимандра до Сократа, Платона и Аристотеля в рамках первого Начала решалось: будет ли Seynsgeschichte Западной Европы онтологической или фундаменталь-онтологической? Перерастет ли отчаянный прыжок онтологической мысли в полет к бездонному Seyn-бытию, или он остановится на полпути и Seyn будет подменен «высшим сущим» («наисущим» ontwz on)?
Мы знаем, каким было это решение, и знаем, к чему оно привело. Фундаменталь-онтологическая перспектива не реализовалась, возобладала та онтология, которую демонстрирует нам западно-европейская философия до последних ее нигилистических проявлений. И зафиксировав вместе с Хайдеггером смысловые ходы всего этого процесса Seynsgeschichte, мы можем окинуть две с половиной тысячи лет судьбы западного человека и его мышления с дерзким начинанием: а не перейти ли нам к новому Началу, не поставить ли нам, с учетом всего известного нам теперь западно-европейского философского опыта, заново вопрос о бытии сущего, но отныне совсем иначе, чем это было сделано в первом Начале? Как иначе?
Не от сущего, не из сущего, не по аналогии с сущим, а рванувшись напрямую в чистую стихию бытия – через ужас, бездну. В первом Начале мы видели, как была открыта возможность прыжка и полета к Seyn. Мы видели также, что она не реализовалась и была окончательно снята с повестки дня платонизмом. Но мы видели также, как это делалось, как логос – место философского даймона – открывались в высшем рывке человеческой мысли, учреждающей философию на месте простого мышления, онтологию на месте онтики. Да, в первом Начале от онтики перешли к онтологии и метафизике. Но во втором Начале следует перейти к фундаменталь-онтологии, реализовав именно ту возможность, которая была упущена, отброшена, провалена.
В этом и состоит новое Начало, иное Начало. Мы не просто ставим вопрос о бытии-Seyn со всей его жесткостью и радикальностью, спрашивая себя «почему есть сущее, а не ничто»(55)? Это переходный вопрос, по Хайдеггеру. «Ведущий вопрос философии» (Leitfrage) со времен введения греками понятия fusiz состоял напомню в выяснении сущности сущего, то есть что такое бытие как сущее в целом? Это вопрос конца первого Начала. Переходным вопросом (Ubergangsfrage) является «почему есть сущее, а не ничто?» А фундаментальным, основным вопросом (Grundfrage): «какова истина Seyn-бытия?» Мы знаем, что «ведущий вопрос» был сформулирован неверно, а ответы данные на него и вовсе привели к катастрофе. Мы знаем также, что «ничто» переходного вопроса не пустое понятие, но тончайшее выражение не совпадения бытия и сущего, кроме того оттеняющее глубинный смысл Seyn-бытия, которое есть Nichts, но и Seyn сущего (Seienden), то есть Sein. И наконец, мы знаем, что не только референциальная теория истины, но и понимание истины-aleqeia как несокрытости сущего, присущее досократикам, является в корне неверными постановками вопроса – несокрытость должна относиться к Seyn-бытию и выводится напрямую из него, минуя сущее – в том числе и человека как сущее.
Возможность нового Начала обеспечивается еще и следующими моментами:
1) исчерпанностью историко-философского процесса европейского человечества и эрой тотального нигилизма;
2) распознанием воли к власти, Machenschaft, ценностей, мировоззрений, техники и всех остальных изданий платоновской идеи как выражением самого Seyn-бытия, доказывающим таким косвенным образом через раскол в сущем, воплощенный в человеке-философе, свое нетождество с сущим;
3) упорной волей к философскому мышлению и к высшему риску в любой ситуации как видового и seynsgeschichtliche достоинства человека, как носителя высшей свободы;
4) фактом наличия философии Мартина Хайдеггера сконцентрировавшего в своих трудах фундаментально-онтологическую линию истории философии и, вытекающей из нее истории Западной Европы в ее наиболее существенных аспектах.
Новое Начало будет открытым, если мы поверим Хайдеггеру, пойдем за ним, примем версию мышления и философствования. Но если внимательно вдуматься в масштаб того философского действия, которое нам предлагается осуществить, станет не по себе из-за фундаментальности задачи, которую предстоит решить. Перейти к новому Началу это значит перестать жить историей Запада, историей вечера, обрушить не только метафизику, но и сам первоисток, первонерв греческого мышления о сущем, aleqea-истине, fusiz, на совсем уже глубинном уровне, под напластованиями латинских, схоластических и современно философских концептов, продолжает предопределять корневые основы западного мышления, западной логики, западного сознания, не говоря уже о культуре, науке, образовании, социальности, политике и экономике.
Хайдеггер предлагает тотальное преодоление Запада и начало новой истории, нового бытия, нового человечества (нового гуманизма). При этом он не указывает пути назад и не ищет альтернатив где-то в иных культурах и иных эпохах. Его приглашение состоит в следующем: необходимо принять западную Seynsgeschichte как свою судьбу, осознать неизбежность и обоснованность каждого ее этапа, расшифровать его, схватить то послание Seyn-бытия, которое косвенным образом содержится в наступлении ночи и царства тотального нигилизма, особенно сконцентрироваться на первокорнях западной философии в эпоху ее первого Начала, и сделать шаг дальше, еще один шаг в бездну, чтобы мгновенно и радикально передать инициативу истины самому Seyn-бытию в чистом виде.
Переход (übergang)
Вот что пишет сам Хайдеггер о переходе к другому Началу.
«Готовясь к переходу от Конца первого Начала в другое Начало, человек не только вступает в никогда еще не бывший «период», но в совершенно новую область истории (Geschichte). Конец первого Начала еще долго будет преодолеваться в этом перехода, и даже в самом другом Начале.» (56)
И далее:
«Этот переход есть разбег для прыжка, с помощью которого Начало, и в еще большей степени другое Начало, может начаться. Здесь в этом переходе подготавливается изначальнейшее и поэтому «самое историческое» (geschichtlichste) решение, или-или, от которого нельзя укрыться ни в какие норы и тайные места: либо оставаться в заточении Конца и его последних следствий, то есть обновленных модификаций «метафизики», которые становятся все грубее и грубее, все бессмысленнее и бессмысленнее (новый «Биологизм» и т.д.), либо начать новое Начало, то есть решиться к его долгой подготовке.
А поскольку Начало происходит только в прыжке, то и эта подготовка к нему должны быть прыжком и как таковая она должна исходить и отпрыгивать от конфронтации с первым Началом и его историей (Geschichte).(…)
В другом Начале все сущее будет принесено в жертву Seyn-бытию, и только в силу этого получит сущее как таковое впервые свою истину.»(57)
Ereignis
Хайдеггер прямо указывает на то, что является основной преградой для такого перехода – человеческий рассудок (ratio). Рассудок в своем пред-ставляющем качестве есть препятствие для фундаменталь-онтологического мышления.
Seyn-бытие в другом Начале не физика (и постигается не как мета-физика). Оно мыслится радикально иначе – через одновременное схватывание и удержание его как бытие сущего и ничто одновременно. При этом неверно мыслить его как то, что всегда должно быть, и чем более оно будет постоянным, тем более оно будет «бытием». Но Seyn-бытие, уточняет Хайдеггер, вообще не есть, оно существует (Seyn west), то есть пребывает в сути. А это значит, что оно является не постоянным и неизменным, но, напротив, редчайшим, оно случается, сбывается, оно уникально.
В этом весь фундаменталь-онтологический нерв другого Начала: оно схватывает Seyn-бытие как Er-eignis (дословно, событие(58)).
Чтобы пояснить термин Er-eignis(59) Хайдеггер использует искусственную синкрету: хотя этимологически термин «Ereignis», происходит от «Er-augen», где смыслом корня является Auge – «глаз», шире, в старо-немецком «зрение», «замечание», Хайдеггер трактует этот термин как созвучное eigene, то есть «собственное», «подлинное», «аутентичное»(60) – «Er-eigene». Er-eignis мыслится Хайдеггером двояко: как уникальное одноразовое (seynsgeschichtliche) событие, в котором Seyn-бытие мгновенно является себя в своей истине и как мгновенный переход от неаутентичного режима экзистирования к аутентичному, и соответственно, к бытию (Sein) и существованию по сути (Wesen).
Seynsgeschichtliche горизонт философии Хайдеггера ориентирован на Ereignis. Ereignis является кульминацией истории бытия, так как в этот момент весь процесс Seynsgeschichte открывается в своем истинном измерении – как повествование бытия о самом себе в обратной (перевернутой) форме – в форме забвения вопроса о бытии (Seinsverlassenheit) и триумфа нигилизма. Ereignis связан напрямую с тем, что весь цикл западно-европейской философии в определенный момент схватывается в его истинных пропорциях и фундаменталь-онтологических значениях, и это схватывание, постижение образует предпосылки для вторжения Seyn-бытия как оно есть – не на сей раз не через длительность, в которой оно скрывается, а через мгновение, в котором оно открывается.
Хайдеггер использует для описания Ereignis'а метафору зрелости, спелости. Seyn-бытие в Erignis'е становится плодом и даром.
При этом Ereignis, обращенный в будущее, и имеющий там свое мгновенное место, присутствует и в бывшем – в той мере, в какой бывшее было, то есть соотносилось с бытием (Seyn). Ereignis, таким образом, становится моментом, ориентирующим развертывание исторического (geschichtliche) процесса, что порождает эсхатологию бытия. Хайдеггер пишет об этом в тексте посвященном Анаксимандру:
«Бытие сущего собирается (legesqai, logoz) в последнем моменте своей судьбы (Geschick). Прежнее существование бытия обрушивается в своей все еще скрытой истине. История бытия собирается в этом расставании. Собранность в этом прощании -- как сбор урожая (logoz) предельного (escaton) выражения его прежнего существования составляет эсхатологию бытия. Бытие как seynsgeschichtliche (посланное) является эсхатологическим.»(61)
Er-eignis таким образом является событием эсхатологическим. В нем вечерний плод фатально сформулированного в первом Начале вопрошания падает в руки того, кто готов совершить переход через точку великой полночи и выйти по ту сторону, на стороне утра. При этом Хайдеггер считает, что спасение Запада, который первым отправился по траектории онтологической философии и метафизики, первым среди всех остальных дошел до критической точки (Конец философии) культур, должно произойти на самом же Западе и им же самим. Приняв на себя фатальность первого выбора, во втором Начале новая философия должна сделать новый выбор, и оттолкнувшись от своей трагической истории сконцентрироваться на проблеме Seyn-бытия, предуготавливая или ожидая Er-eignis, как финальное сбывание бытия.
Er-eignis – ключевое слово Нового начала. Это и есть другое Начало в его фундаменталь-онтологической сути.
Seyn-бытие существует как событие. (Das Seyn west als Ereignis), пишет Хайдеггер(62).
Последний Бог
Эсхатология бытия приводит Хайдеггера к введению той фигуры, на которую, насколько я знаю, мало кто обращал серьезно внимание. Он излагает догадки о последнем Боге (der letzte Gott).
Он говорит о нем следующее:
«Последний Бог
Наиприходящее в прихождении, что, конституируясь, случается как событие.
Приход как сущность бытия.
Спросите само Seyn-бытие! И в его молчании, как Начало слова, ответит Бог.
Вы сможете обойти все сущее, но вы никогда не нападете на след Бога».
По-немецки это звучит так:
«Der letzte Gott
Das Kommendste in Kommen, das austragend sich als Er-eignis ereignet.
Das Kommen als Wesen des Seyns.
Frage das Seyn! Und in dessen Stille als der Anfang des Wortes antwortet Gott.
Alles Seiende mögt ihr durchstreifen, nirgends zeigt sich der Spur des Gottes».(63)
Frage das Seyn! Обратитесь к бытию, спросите бытие (Seyn)!
Сам строй текста дает понять, что речь идет о своего рода пророчестве, о фундаменталь-онтологичсеком видении, которым зачинается, учреждается и постулируется на совершенно новом цикле истории философии. Это пророчество об уникальном событии, которой должно произойти строго в момент Великой Полночи.
Последний бог -- уникальная фигура в философии Хайдеггера. Он появляется через Ereignis проходит мимо людей, оставляя им только кивок, намек (Wink). Он не является ни сущим, ни творцом сущего, но он проявляет себя в тот момент, когда бытие как Seyn сбывается в одноразовости события.
Хайдеггер пишет: «В бытии намека (Wink) само Seyn-бытие приходит к своей зрелости. Зрелость – это готовность стать плодом и быть подаренным. В этом существует последний, который по сути (wesentliche), от Начала ожидаемый, неслучайно случающийся Конец. В этом раскрывается глубиннейшая конечность Seyn-бытия: в кивке последнего Бога»(64). И далее: «Последний Бог это не конец, но другое Начало неизмеримых возможностей нашей судьбы (Geschichte).»(65)
Последний Бог – загадочная фигура. Хайдеггер тщательно отличает его от персонажей всех известных религий. НО это не пустой индивидуальный образ или метафора. У Хайдеггера, который отрицал и религию и атеизм на основании их полной зависимости от философской топики первого Начала, то есть онтологии и метафизики, можно увидеть намеки на очень своеобразную теорию божественности. Прямо он об это не говорит, но моно попытаться реконструировать ход его мысли, приводящий к введению в его эсхатологию бытия последнего Бога.
Хайдеггер преимущественно мыслит о другом Начале, которое должно пойти по иному сценарию, нежели первое и привести к Ereignis. Первое же Начало было Началом перехода от онтического мышления к философскому и онтологическому. НО древние греки, которые основывали первое Начало верили в богов. Хайдеггера не интересует структура этой древне-греческой религии, его интересует то, как философское сознание греков, совершая прыжок в бездну, мыслило себе богов и божественность. Самое важное, что боги – это не бытие, но они и не сущее. Кроме того, боги не люди, совсем не люди. Боги, по Хайдеггеру, однако нуждаются в Seyn-бытии, чтобы зафиксировать свою божественность. Они не суть и не не суть. Главное свойство богов – легкость. Кроме того, богам безразличны люди, они их не спасают и не наказывают, боги проходят мимо людей, но это происходит только тогда, когда люди обращаются к бытию своей человечности, и достаточно чтят через него бытие как Seyn. Тогда люди настроены на священное. И священное дает место божественном. А божественное позволяет богам собраться на тинг вокруг очага Seyn-бытия. Люди, ответственные за бытие, в отличие от другого сущего, должны верно структурировать эту ответственность, послужить бытию. И это даст возможность богам явиться. Если же человек подменит Seyn-бытие Sein-бытием, метафизикой, онтологией, волей к власти и, в конце концов, Machenschaft, легкие боги легко упорхнут, не оставив следа, удаляться – ведь их ничто ни с чем из людского не связывает. Боги убегают от платонизма, теизма, деизма, атеизма, то есть всего, что «преднамеренно навязывает» сущему заведомые пред-ставления, и не дает Seyn-бытию просвечивать и освещать сущее, где боги могли бы собраться вокруг этого свечения.
В первом Начале греки мыслили богов через бытие. Гераклит писал о том, что «этос бог человека»; оправдывал перед любопытствующими пришельцами, то, что он греется у очага, тем, «что и там живут боги»; видел в борьбе то начало, что делает богов богами, а людей людьми». Парменид был посвящен богиней истиной. Это боги и богини располагались вокруг почитаемого первыми философами бытия, скрывались и проявлялись. Они были чрезвычайно важны для мышления, для человека, составляя его тонкую и парадоксальную пару на противоположном конце сущего. Боги и люди – два полюса сложнейшего молчаливого поэтического мыслящего диалога о Seyn-бытии.
Мышление о бытии как о сущем в целом, о сущности, о идее, спугнуло богов. Им нечего было делать там, где людям все стало ясно. Боги обретаются только в молящем вопрошании и торжественном пении.
Последний Бог Хайдеггера, это Бог, возвращающийся в ходе развертывания другого Начала. Он приходит не как спаситель. Он идет мимо. Но он дает легки знак, кивок головы, почти невидимый жест, который давали античные судья или басилевсы, решая какое-то важное дело. Чем серьезнее было решение, тем короче, незаметнее и значимей жест. Поэтому последний Бог не приходит, он проходит, грядет мимо. Он ничего не дает людям, он ничего не меняет. Он заверяет лишь, что Начало, на этот раз, действительно, Начало, или, точнее, возможно, Начало. Тем самым зреющий Ereignis получает тонкую незаметную и не необходимую сертификацию. Событие сбылось. В тишине, новой сакральности и почтении людей отвоевывается место для того, чтобы последний Бог прошел.
Там, где речь идет о последнем Боге, Хайдеггер говорит поэтическим языком. Он намерено неясно и парадоксально выражается, ожидая, что в области этого предельного проникновения в возможность другого Начала, сознание настроено на то, чтобы схватить тончайшие намеки.
«Последний бог это Начало самой долгой судьбы (Geschichte) по самому короткому пути. Долгая подготовка необходима для великого мгновения его прохождения мимо. Для такой подготовки народы и страны слишком малы, они закрыты для истинного роста и преданы Machenschaft.
Только великие и скрытые одиночки будут готовить тишину для мимохождения Бога и готовить между собой молчаливый настрой.» (66)
Человек в другом Начале (новый гуманизм)
Эти «великие скрытые одиночки» Хайдеггер вслед за Ницше называет «будущими» (die Künftige). Подробно Хайдеггер описывает фундаменталь-онтологическое понимание человека в знаменитом письме о гуманизме французскому философу Жану Бофре(67).
Нам станет более внятным содержание этого часто цитируемого текста, если мы локализуем место человека в структуре философии Хайдеггера. Гуманизм, как и все остальные версии западно-европейской философии, Хайдеггер отбрасывает в силу их прямой зависимости от метафизической топики. К такому гуманизму он не испытывает никакого интереса. Его интересует человек и человеческое в структуре Начала (как первого, так и другого). Человек – это брешь в сущем, сквозь которую врывается бытие, взрывая сущая и самого человека. Таким он является в своем отношении к бытию. Только это отношение человека к бытию и есть его сущность. Все остальное – животность, разумность, духовность, душевность психологичность, социальность, этничность для него второстепенно. Человек есть человек только с своей сути, в том, что он есть, а это значит, он есть человек через отношение (Bezug) к бытию. Тот, кто не думает о бытии, или думает не так, кто забивает вопрошание саморазумеющейся болтовней, кто не умеет удивляться и ужасаться, кто не чувствует проблем, будучи «заброшенным» в сущее, кто не утверждает высшей свободы в благородном мышлении или тихом священном труде, тот отрекается от своей человечности, утрачивает ее. Поэтому новый гуманизм Хайдеггера – это гуманизм исключительный, где человеческое достоинство измеряется мерой соучастия в фундаменталь-онтологическом деянии, в вопрошании Seyn-бытия, в подготовке Ereignis и ожидания мимохождения последнего Бога.
Такого человека – будущего человека – Хайдеггер называет «сторожем бытия» (Wächter des Seins) или «пастухом бытия» (Hirt des Seins). Человек интимно связан с бытием, но он при этом и независим от него. Бытие нуждается в человеке не для того, чтобы быть (сущим может быть и нечеловеческое сущее, через которое бытие есть), но для того, чтобы приготовить посреди сущего место для своего свечения, для света своей истины. Человек и есть это место. Если место надлежащее, священное, оно подходит для священнодействия, для освещения, для несокрытости (истины) бытия. Если не надлежащее – то человек и человечество становятся мировой помойкой (как в конце Нового времени, то есть сегодня).
Человек достойный быть человеком, это человек альтернативный тому, кого мы понимаем под этим именем сегодня, тому, то остается под гнетом онтологии и ее нигилистических производных. И последние люди Ницше (которых большинство), и его же сверхчеловек (выражающий максимализацию воли к власти и доминации) – остаются в рамках старого гуманизма. Хайдеггер перечеркивает его с усталостью и грустью. Этому входа в «будущее» не предвидится. Человек – это только носитель вопрошания о бытии, о его истине, о его удаленности и о возможности его возвращения через событие, и последнем Боге. Тот, кто не носитель всего этого, тот не человек. По меньшей мере, он выпадает из границ хайдеггеровского гуманизма. Гуманизма другого Начала.
Человек определяется своим отношением к бытию. Представление о том, что человек обладает бытием как чем-то постоянным, гарантированным и соотносится с бытием вообще через свое бытие как бытие человека – это заблуждения метафизики, которые в другом Начале следует категорически отбросить. Хайдеггер пишет: «Seyn-бытие для человека – это случайность (Zu-Fall), то что человек сбывается в Seyn-бытии, зависит не от него и никак не означает, что у Seyn-бытия есть какие-то обязательства по отношению к человеку, как если бы оно нуждалось в нем.»(67-1). И несколько выше: «Seyn-бытие существует не для человека, но человек существует – в лучшем случае -- для Seyn-бытия; для Seyn-бытия в том смысле, чтобы таким образом человек завоевал бы для самого себя свою собственную суть.»(67-2)
То, что человек есть не просто сущее, но место вторжения бытия, заложено в его способности к речи. Речь не просто одно из свойств человека. Не случайно он называется zoon logon econ, «животное, наделенное речью». Речь вообще не свойство человека, это свойство бытия. Через речь бытие существует. Речь есть то, через что бытие есть как бытие. Поэтому человек в перспективе нового гуманизма должен заговорить по-другому. Он должен обратиться к словам, и осознать, что они ему сообщают. И затем, он должен начать мыслить и говорить с помощью того, что он осознал. НО чтобы родилась эта новая речь, – речь другого Начала, речь грядущих (die Kunftige), -- необходимо предварительно устроить «деструкцию» старого языка, основанного на правилах грамматики и логики, то есть на правилах метафизического мышления первого Начала.
Новый гуманизм предполагает новую речь, так как в речи, в языке лежит судьба бытия, высший момент Seynsgeschichte.
Новый человек другого Начала будет говорить по-новому на новом языке и новые мысли и вещи. Все о чем он будет говорить, будет связано напрямую с сутью бытия, то есть с тем, как это бытие существует в своем высвечивании. Это будет Фундаменталь-онтологическая речь антропологии Ereignis'а. Только такая речь сможет высказать священное молчание, в котором станет возможным мимохождение последнего Бога.
Глава 8. Seynsgeschichte и политические идеологии ХХ века
Фундаменталь-онтологический метод и область его применения
После общего экскурса в структуру мышления Хайдеггера легко понять, что в западно-европейской метафизике его интересуют только наиболее принципиальные вещи, в которых концентрировалось отношение этой метафизики к бытию (Sein) как к сущему-в-целом или сущему второго порядка, и, соответственно, прогрессирующее удаление от Seyn-бытия, что предполагало на определенном этапе и забвение онтологической проблематики как таково (Seinsverlassenheit). Поэтому прикладные вопросы этой метафизики – теология, гносеология, гуманизм, аксиология, эпистемология, философия науки, филология, этика и тем более политическая философия – не имели для него никакого самостоятельного значения, будучи частными случаями приложения основных принципов этой метафизики. Однако во всех случаях, когда Хайдеггеру приходилось выносить суждение по этим частным вопросам, он вынужден был возводить их к их метафизическим истокам, а в некоторых намечать перспективы того, в каком направлении должны были бы истолковываться соответствующие направления мысли и области культуры в фундаментально-онтологическом ключе. Это значит, что Хайдеггер вместе с критикой частных моментов западно-европейской метафизики, набрасывал пути радикально нового толкования соответствующих тем в другом Начале.
Эта двоякая операция – возведение того или иного рассматриваемого предмета к общему контексту западно-европейской онтологии и попытка его альтернативного толкования в ракурсе фундаменталь-онтологии и составляет главную процедуру перехода к другому Началу, и соответственно, является основным методологическим приемом философии Хайдеггера. Эта методология в ее первом жесте представляет собой «феноменологическую деструкцию»(68), что Хайдеггер понимал не отрицательно, в прямом смысле слова «деструкция» («разрушение»), но, скорее, как «раз-бор», «рас-соз-дание» в обратном направлении того, чтобы было искусственно «соз-дано», возвращение высказывания в его изначальный контекст в структуре метафизики. Во французской философии структурализма позже тая же самая операция получила название «деконструкция» (Ж.Деррида). Второй жест более сложен, так как он состоит в том, чтобы соотнести возведенную к метафизическому контексту тему с вопросом о Seyn-бытии, то есть поместить ее в Начало (либо первое, либо новое), что означает изъятие этой темы из контекста западно-европейской философии и включение ее в радикально новый фундаменталь-онтологический контекст, но не как во что-то уже заведомо имеющееся, но как в то, что, собственно, и создается, слагается в ходе такой операции по соотнесению вещи, вопроса, предмета, явления напрямую c Seyn-бытием. Если бы второй фундаменталь-онтологический контекст был бы заведомо известен, дан, то эта операция представляла бы собой техническую проблему. НО он не дан. Он только задан как горизонт возможного, но не гарантированного нового Начала. Это Начало может начаться, и начавшись, оно будет представлять собой как раз осуществление тотальной ревизии концепций, слов, тем, областей, науки, дисциплин, вещей и мыслей. Однако если мы схватим сущность хайдеггеровского метода(69), мы сможем осуществлять эту операцию самостоятельно и, в частности, корректно расшифровывать и продлевать даже косвенные намеки самого Хайдеггера относительно тех или иных проблем, которые он затрагивал бегло и по ходу дела.
Так, мы можем набросать картину отношения Хайдеггера к современным политическим идеологиям, которые как таковые, впрочем, его никогда не интересовали сами по себе. Однако такой seynsgeschichtliche подход к этой теме многое прояснит в истории современного мира и даст важнейшие ключи к дешифровке подлинной истории ХХ века.
Американизм и планетэр-идиотизм либералов
ХХ век знал три основные политические идеологии: либерализм, коммунизм и фашизм. Так или иначе Хайдеггер отзывался о каждой из них. Эти отзывы, будучи обрывочными и несистематизированными, – эта сфера никогда самого Хайдеггера приоритетно не интересовала, -- имеют, тем не менее, большое самостоятельное значение.
Все эти идеологии, по Хайдеггеру, и это ясно само собой, суть проявления современного нигилизма и выражают только одно: торжество tecnh, «забвения о бытии», «преднамеренное самонавязывание», «волю к власти» и Machenschaft. Все три политические идеологии суть максимальные выражения тотального нигилизма; это ночные идеологии, в которых западно-европейская мысль достигает своего дна. Они не просто суть формы «ложного сознания», как определял «идеологию» Маркс, они выражают ложность сознания как сознания онтологического и метафизического. Более того, эти идеологии оперируют с метафизикой в издании Нового времени, а следовательно, а место сущности сущего, бытия в целом, идеи или Бога, поставлены самые примитивные и убогие идолы субъект-объектных пар.
Либерализм отождествляет картезианского субъекта с индивидуумом и производимыми его рацио прагматическими расчетами в области исчисляемых материальных и нематериальных объектов (преимущественно товаров). Это Хайдеггер называет «американизмом», понимая под этим высшее выражение капитализма. Ничего гнуснее и подлее такого вырождения философии не существует, так как здесь нигилизм достигает такой степени интенсивности, что даже не догадывается, что представляет собой нигилизм. В определенный момент ночь становится настолько привычной, что больше не идентифицирует себя как ночь. Рассчитывающий рассудок, лежащий в основе либерализма и его ценностей, это последняя стадия вырождения западно-европейской онтологии. Ниже идти некуда.
Корни либерализма как фатальной смертельной пандемии следует искать в Европе, но окончательную форму это политическое явление приобрело в США. Будучи с чисто философской зрении абсолютно ничтожным, оно разрастается до глобальных масштабов, образуя феномен «гигантского», который становится все более «гигантским» по мере того, как его смысл и значение, его онтологическое содержание сжимается до микроскопических размеров. Планетарный рост либерализма тождественен распространению повального слабоумия.
Хайдеггер называет это явление «планетаризм» (сегодня мы говорим о «глобализме» «мондиализме»), отождествляя его с глобальным «идиотизмом». В сути свое это не что иное, как «опустынивание», о котором писал Ницше («пустыня растет, горе тому, кто несет в себе пустыню»(70).
Хайдеггер пишет:
«Высшее развертывание сути могущества (власти в ницшеанском смысле, Macht) проявляется не в форме ранее известного опустынивания и утраты корней, но в норме прямой противоположности этому опустыниванию и выкорчевыванию. Исторически фиксируемые знаки полной реализации самой сути могущества воплощены в двух явлениях – «планетаризм» («глобализм») и «идиотизм». «Планетаризм» («глобализм») означает распространения сути могущества (Machtwesen) на всю землю, но не как результат расширения, но как начало особой формы планетарного господства. «Идиотизм» (idion(71)) означает превосходство надо всем эгоистического начала, в котором выражается крайняя форма субъективности»(72).
Читая эти строки, можно подумать, что они написаны не в 1938 году, а в 2000-х.
Человек глобального мира, либерал, принимающий и признающий нормативность «американского образа жизни» — это человек, со строго философской и этимологической точки зрения, являющийся патентованным идиотом, идиотом с документом, идиотом, несущим свою бессмысленность над собой как знамя.
Либерализм воплощает в себе метафизику Нового времени в ее наиболее сухом, примитивном, но в то же время наиболее чистом виде. К Новому времени и его философии можно относиться по-разному, даже будучи неразрывно и осознано с ними связанным. Можно постараться выстроить критическую теорию, пытаясь превзойти заложенной в этом отчуждение (марксизм). Можно попытаться углубиться в корни проблемы мужественно признать реальное положение дел, столкнувшись с нигилизмом лицом к лицу (немецкая философия в ее пике – от Гегеля с его «неагивностью» до Ницше). А можно выразить основной нерв этой метафизики с минимальным напряжением мыслительных усилий, отдавшись стихии отчуждения, наивно солидаризовавшись с ней, сказав ей заведомое и покорное «да», даже не заботясь особо, чему это «да» говорится. Этот последний вариант и есть англосаксонский либерализм и американизм. Это самое страшное и фатальное. Он представляет собой окончательный выбор в пользу отказа от другого Начала, такую степень забвения о бытии, что забывается даже сам факт забвение. Это нигилизм в его высшем выражении, когда само осознание нигилизма как нигилизма становится невозможным.
Планетарная могущество идиотизма (идиотов) не есть простое насилие и эксплуатация одних народов другими. Это насилие чистого нигилистического начала, жертвой которого становятся все и те, кто его осуществляют, и те, кто ему подчиняются. Самовлюбленные планетэр-идиоты стоят ближе к ничто не тогда, когда они лишаются чего-то или подвергаются насилию, но когда они пребывают к комфорте, безопасности и иллюзии полной субъективной свободы. В этом случае власть Machenschaft над ними абсолютна, а их расчеловечивание достигает предела. Идиот глобального рыночного общества – это экс-человек, провалившийся в стихию ничто, которую он просто не замечает.
Метафизика коммунизма: Machenschaft
С марксизмом, по Хайдеггеру, все обстоит сложнее. В отличие от либерализма, марксизм несет в себе серьезную философскую энергию, почерпнутую в немецкой классической философии (в гегельянстве) и сконцентрированную вокруг проблемы отчуждения. Именно этот момент марксизма, по Хайдеггер, сделал его столь притягательным и успешным.
Во вскрытии проблемы отчуждения заключен нерв всего процесса западно-европейской истории (Geschichte). Эта история и есть история отчуждения. Признание этого и концентрация на этом внимания есть обращение к истине Seynsgeschichte. В этом отношении марксизм есть серьезный философский вызов, к которому необходимо отнестись со всей серьезностью. Интерпретируя историю как накопление качественных свойств отчуждения, Маркс попадает в точку и задевает суть истины. Мысля от этого момента, любые суждения мыслящего приобретают значение и вес. Seynsgeschichte первого Начала вплоть до Конца есть процесс отчуждения мысли от Seyn-бытия, забвения о бытии (Seinsverlassenheit). Именно это и предопределяет логику и структуру всех культурных, социальных, политических, идеологических и экономических процессов. Марксизм ставит это в центре своего внимания, и, следовательно, отвоевывает себе место в истории мысли.
Но тут вступают в силу ограничения, которые заложены в самой гегелевской философии. Гегель совершенно справедливо рассматривает историю как и историю философии, и более того, как историю Идеи. Но он остается полностью в рамках первого Начала и классической онтологии, и не может выйти на корректную постановку вопроса о Seyn-бытии (Grundfrage) именно в силу этих причин. Гегель мыслит в рамках стихии tecnh с помощью философских концептов и с опорой на платоновское понимание идеи как сущности сущего. ТО есть он остается в рамках западно-европейской метафизики, хотя и приближает ее к Концу – охватом, пронзительностью и тотальностью своей мысли, суммируя в своем учении все ее основные моменты.
Маркс наследует у Гегеля и эту особенность, сохраняя верность метафизической топике Нового времени – он мыслит в категориях субъекта (общество, класс), объекта (материя, товар, предмет), времени (как объективного явления) и т.д. Проблему отчуждения – Machenschaft – марксизм предлагает преодолеть средствами самого Machenschaft. Буржуазное идеологии (ложного сознания одного класса) противопоставляется пролетарская идеология (ложное сознание другого класса). Сфера борьбы переносится в область промышленного и товарного производства. Мышление в категориях субъекта (на сей раз коллективного – в лице общества) полностью сохраняется. Этот путь, начинающийся с констатации отчуждения, может вести только к усугублению отчуждения.
Это Хайдеггер в полной мере фиксирует в советской России, где структура марксистской философии воплощается в социльно-экономическую и политическую практику. Индустриализация, техническое развитие, тоталитарная мобилизация советского коммунистического общества, борьба за политическую власть и геополитическую доминацию – все это яркие признаки того, что коммунизм есть не преодоление западно-европейской метафизики, но последние (и ярчайшее выражение) его судьбы (Geschichte). Но при этом коммунизм более верен сущности Machenschaft, нежели все остальные политические идеологии. Коммунизм и есть Machenschaft в его чистом виде, и поэтому он является судьбой западно-европейской философии и в высшей степени эсхатологическим явлением. Коммунизм и есть крайнее выражение метафизики, которая утверждает тотальную доминацию сущности сущего над сущим. И если в Начале это выражается в идее, то в Конец во власти, в могуществе и в высшей и самой отчетливой форме –Machenschaft. Machenschaft – это тотальная доминация над сущим того, что мыслится как его сущность, что в терминах метафизики Нового времени можно описать как объектность объективного или материальность материального. Коммунизм – это не власть одних над другими, к какому бы классу они ни принадлежали, это власть власти надо всеми. Это высшая форма развоплощенной власти чистой предметности. Поэтому Хайдеггер пишет, что «в коммунизме больше нет ничего «человеческого»»(73). «Суть коммунизма -- чистая легитимация (Ermächtigung) власти (Macht) в безусловности Machenschaft и через эту безусловность»(74).
Коммунизм – это чистая метафизика Нового времени в форме ее Конца. НО распознана в качестве таковой она может только в оптике фундаменталь-онтологии, которая фиксирует seynsgeschichtliche значение явления, корректно расшифровывает его, понимает его неслучайность, его предопределенность, его судьбинность, его фатальность, и только тем самым – распознав под этим кромешным забвением бытия голос самого бытия, дающего знать о своем истинном отношении к недостаточности мысли о бытии, отталкиваясь от сущего, через безжалостное и тотальное господство Machenschaft над сущим. Преодолеть и победить коммунизм, по Хайдеггеру, возможно только, поняв его.
Будучи двумя крайними выражениями западно-европейской метафизики «американизм» (либерализм, «планетэр-идиотизм») и коммунизм (советский большевизм) и двумя версиями Machenschaft, воплощая в себе крайние стадии нигилизма и сам дух Конца, то есть являясь закономерными, обоснованными и судьбоносными формами, они, вместе с тем, являются противниками фундаменталь-онтологического перехода к другому Началу. Они воплощают в себе иное решение – решение оставаться верными западно-европейской метафизике не просто вплоть до Конца, но и после Конца, когда Конец как таковой зафиксирован, распознан и корректно интерпретирован германской (старо-европейской – не американской и советской -- философией Нового времени в ее последнем издании). Поэтому только возвращение феноменов Конца к их концу, то есть окончательное уничтожение либерализма и коммунизма явится проявлением действительности прыжка человечества в другое Начало и зарей возвращения бытия.
При этом Хайдеггер убежден, что победа над либерализмом и большевизмом с помощью чисто технических средств невозможна, поскольку мы имеем дело с метафизическими и онтологическими явлениями, которые моно победить в пространстве метафизики и онтологии. Поэтому главной задачей в их уничтожении является приведение их к их тайной сути, к их онтологическим корням, и тем самым, в освобождении их подлинного нигилистического смысла. И в этом отношении Хайдеггер произносит фразу, которая стала по-настоящему пророческой относительно политической судьбы ХХ века. -- «Опасность состоит не в «большевизме», а в нас самих»(75).
Политическая идеология Третьего пути
Мы подошли вплотную к политическим позициям самого Хайдеггера, которые мы можем теперь интерпретировать вполне корректно. Хайдеггер осмыслял свое собственное место в истории мысли, более того в Seynsgeschichte, как нечто, напрямую связанное с Германией. Свои этнические и культурные корни он понимал метафизически, как принадлежность к германской философской и поэтической традиции. Сам факт мышления по-немецки был для него в высшей степени значимым, так как, согласно его воззрениям, язык – это дом бытия, и от того, како этот дом (немецкий, греческий, латинский, английский, французский, русский, семитский и т.д.) зависит во многом характер отношения человека с бытием. Немецкая философия – это немецкий путь к Seyn-бытию, что Хайдеггер часто подчеркивал и в отношении немецкой философии (повторяя слова Гегеля о том, что «великий народ должен иметь великую философию») и в немецкой культуры и поэзии (высшим проявлением которой он считал поэзию Гельдерлина). Германская философия связана с судьбой Seyn-бытия не меньше, чем греческая. Но с греков все начиналось, а немцами все заканчивается. Поэтому Гегель и Ницше, по Хайдеггеру, последние философы, осознавшие Конец философии раньше, лучше и яснее остальных. Те, кто осознали конец, открыли путь к другому Началу. Поэтому последние – немцы – столь созвучны первым (древним грекам и особенно досократикам). Немцам же – самому Хайдеггеру и другим «будущим» -- принадлежит миссию начать философию заново. Поэтому для Хайдеггера судьба Запада и Европы в целом свелась к судьбе Германии. Отсюда фундаменталь-онтологический патриотизм Хайдеггера; патриотизм, отвергающий национализм, коллективный эгоизм и иные формы превосходства, основанные на метафизических представлениях о субъектности. Хайдеггер видит в Германии и немцах Seyn-бытие, язык мышления и поэзии, народ тех «единичных», «редчайших», которые способны вопрошать об истине Seyn-бытия. Хайдеггеровский патриотизм –это патриотизм «основного вопроса философии», патриотизм Grundfrage. Являясь немецким, он является в той же степени европейским, западным, более того, патриотизмом всего человечества, вступившего на путь вечера и достигшего точки полуночи.
В конкретной политической географии Германию (Европу) – как центра философского мышления – при жизни Хайдеггера с двух сторон в клещи взяли две другие производные формы западно-европейской метафизики – с Запад «американизм», шире, англосаксонский либерализм («планетэр-идиотизм»), с Востока – советский большевизм, марксизм, Machenschaft в наиболее открытом и тоталитарном виде. Метафизически оба они соответствовали такому мышлению, которое проигнорировало (либерализм) или неверно интерпретировало Конец, обнаруженный германской философией, и сделало выбор в пользу продолжения того, что кончилось, уже после этого Конца. Европа оказалась под двойным ударом финального воплощения первого Начала в его окончательном виде – в виде тоталитарной и планетарной доминации tecnh. Европа же (как ее философский эсхатологический эквивалент -- Германия) воплощала для Хайдеггера возможность перехода к другому Началу. Европа была местом написания, издания и прочтения «Sein und Zeit». Поэтому Хайдеггер заведомо оказывался в стане тех сил Европы, которые глубинно мыслили ее идентичность, старались проникнуть в ее Seynsgeschichte, желали идти ее философской судьбой до Конца, в Конце и по ту сторону Конца – в другое Начало. Кроме того, эти силы, по определению, должны были погружены в дух немецкой культуры и философии или по меньшей мере, осознавать значение и улавливать содержание этого духа. И наконец, эти силы оказывались в положении радикального противостоянию с американским (англосаксонским) либерализм и советским большевизмом не по политическим, а по метафизическим причинам: прежде чем перейти к возможному предуготовлению другого Начала, необходимо было покончить с тем, что упорствовало в игнорировании факта свершившегося Конца уже после его свершения. Хайдеггер не только логически оказывался в стане этих сил, но в определенном смысле, был философским полюсом, центром и ядром этих сил в фундаменталь-онтологическом и философском смысле. Хайдеггер своим мышлением и конституировал эти силы.
Если судить по формальным признакам, то политические идеологии Третьего пути (национал-социализм, фашизм и т.д.) до определенной степени соответствовали этой метафизической позиции. Они были ориентированы патриотически, проевропейски, антилиберально и антикоммунистически. Они обращались к корням и истокам, уходящим глубже Нового времени, претендовали на возрождение всего европейского наследия. Философия Гегеля и Ницше была поставлена в разряд высших достижений мысли. Отсутствие жесткого догматизма и системности позволяла в рамках этих движения предлагать различные эпистемологические и философские модели и гипотезы. Эсхатологическое чувство критического переломного момента мировой истории – с живым опытом Первой мировой войны, брутальным осознанием планетарного наступления техники, с острым подозрением о близости «Заката Европы» (Шпенглер) – дополняло картину.
Полнее всего эти тенденции были представлены в идейном течении «Консервативной Революции»(76), куда входили такие мыслители как Освальд Шпенглер, Карл Шмитт, Отмар Шпанн, Томас Манн, Эрнст и Георг Юнгеры, Артур Мюллер ван ден Брук, князь фон Гляйхен, Эрнст Саломон, Фридрих Хильшер, Эрнст Никиш, Людвиг Клагес и сотни других выдающихся немецких интеллектуалов, мыслителей, поэтов и деятелей искусства. Хайдеггер был по всем признакам, системам связей и контактов, силовым линиям мышления и политическим симпатиям, органической частью этого направления. И может быть отнесен к нему без каких-либо оговорок. Хайдеггер был консервативным революционером в том смысле, что человек в его понимании призван быть «сторожем бытия» (в этом смысле консерватором Seyn-бытия), но вместе с тем – его судьба состоит в рискованном прыжке в другое Начало («революционный» момент, ориентация в будущее).
Остается выяснить соотношения течения Консервативная Революция к таким политическим явлениям как национал-социализм и фашизм. В некотором смысле можно утверждать, что Консервативная Революция в Германии и ее аналоги в других европейских странах, в частности, в Италии, Испании и т.д. была той идейной средой, в которой возникли политические идеологии Третьего пути – фашизм и национал-социализм. Но вместе с тем, главным объектом критики со стороны деятелей Консервативной Революции был сам дух модерна и его наиболее яркие проявления -- индивидуализм, рационализм, утилитаризм, догматизм, материализм, субъективизм, одним словом нигилизм и Machenschaft. Вместе с тем политическая идеология национал-социализма и фашизма, частично опираясь на идеи Консервативной Революции (в частности, на антилиберализм, антикоммунизм, антиутилитаризм и т.д.), в огромной мере несла в себе черты того же самого Нового времени, против которого была направлена основная критика Консервативной Революции. Отсюда – политический прагматизм (вплоть до оппортунизма), поглощенность практикой и техникой, индустриализацией и милитаризацией экономики, субъективизм (нации или расы), интеллектуальная косность, примитивный расистский догматизм и многие другие черты типичной метафизики Нового времени.
Поэтому носители духа Консервативной Революции оказывались в сложной политической ситуации. Для них политические идеологии Третьего пути были самими близкими хотя бы потому, что в либерализме и коммунизме (США и СССР) они видели самых больших своих врагов и ни о какой – даже относительной – форме солидарности с ними и речи быть не могло. Но и эти идеологии Третьего пути (национал-социализм и фашизм) были –в той форме, в которой они воплотились в политические режимы и социальные системы -- были неприемлемы, поскольку несли в самих себе – в своих эксплицитных и имплицитных выражениях – весь набор принципов и тезисов, битва с которыми составляла сущность Консервативной Революции. Сама ориентация движений Третьего пути была верной, но формы, которые она приняла, их поверхностность, поспешность, догматичность и оппортунизм заведомо подрывали саму возможность их позитивной эволюции. Самые проницательные представители Консервативной Революции – такие как Эрнст Никиш, уже с начала 30-х, увидели, что приход к власти партии Гитлера обернется фатальной катастрофой для Германии, причем не с позиции либералов и коммунистов (это было второстепенно), но с позиции тех идей и принципов, которые национал-социализм, якобы брался отстаивать. Книга Никиша так и называлась: «Гитлер – злой рок для Германии»(77). Многие вслед за Никишем, разделяя его опасения, ушли в антигитлеровское подполье. Остальные оказались во «внутренней эмиграции». В таком положении оказался и Эрнст Юнгер, один из тех мыслителей, кто полнее и ярче всего сформулировал основные идеи национал-социализма, но при этом остался за боротом нацистской партии, так как отказался идти на компромиссы с вульгарностью, популизмом и беспринципным прагматизмом партии Гитлера.
Хайдеггера в полной мере можно отнести к консервативным революционерам, находившимся во «внутренней эмиграции», в которой он оказался вскоре после того, как по прагматическим соображениям о согласился стать ректором Фрайрбургского университета и вступил в национал-социалистическую рабочую партию. И хотя его ректорство продолжалось недолго (всего 9 месяцев) и вскоре на его идеи начались агрессивные нападки со стороны официальных представителей гитлеровского режима, несмотря на открытую критику многих основополагающих моментов нацистской идеологии, которые он подвергал нещадной критике в своих выступлениях в 30-х- 40-х годах, Хайдеггер вплоть до 1945 не снимал с себя ответственности за принятое решение, продолжал носить партийный значок и разделял судьбу своего народа и того политического режима, который этот народ выбрал.
Вся драма, вся глубина парадокса отношения Консервативной Революции к национал-социализму выражена в словах Хайдеггера, произнесенными в самом начале Второй мировой войны, когда война с большевизмом стала неотвратимой: «Опасность состоит не в «большевизме», а в нас самих»(78). Это означает, что надвигающаяся война с СССР в глазах Хайдеггера представляет собой не просто военную конкуренцию двух держав за жизненные интересы или доступ к природным ресурсам, не просто грандиозный виток битвы за планетарную власть, но столкновение двух начал, где марксистской метафизике (Machenschaft) должна противостоять «тихая сила возможности», возможности другого Начала. Но пока сама Германия и национал-социализм не осознали фундаменталь-онтологического значения собственной исторической (seynsgeschichtliche) миссии, пока они сам не освободились от массовости, рационализма, от tecnh, от старой метафизики Европы, от того же Machenschaft, эта битва не могла быть выиграна, поскольку это была не та битва, какой она должна быть.
Этот зазор между Консервативной Революцией и политическими движениями Третьего пути составлял нерв политической истории ХХ век5а, если рассматривать ее в хайдеггерианской перспективе. Хайдеггер никогда не открещивался от национал-социализма который он, однако, жестко критиковал еще, будучи сам членом партии, именно потому, что политические идеологии победителей ему несравнимо более отвратительны и чужды, так как воплощали то, что Хайдеггер ставил перед собой задачу не просто уничтожить, но похоронить, преодолеть, закрыть как финальный этап истории (Geschichte). Но и национал-социализм, находясь ближе всего к позиции Хайдеггера, был категорически не тем, чем должен был бы быть. Пока он существовал, оставалась слабая надежда на его эволюцию, на его преображение, на его трансформацию. Но его закономерный конец только подтвердил, что речь шла о преждевременной и искаженной симуляции другого Начала, что это была имитацией Ereignis, а не сам Ereignis, и даже не приближение к нему. Будучи лучшим, нежели все остальное, национал-социализм был глубинно и по сути неадекватен. В нем мерцала возможность преображения, возможность постановки вопроса о Seyn-бытии, возможность другого Начала, но эта возможность не только не реализовалась, но не состоялась как возможность, оказалась призрачной и обманчивой.
Когда после войны философы и интеллектуалы задавались вопросом о том, как мог Хайдеггер так ошибиться в своем политическом выборе, они не учитывали того, что он-то как раз не ошибся – выбирая между либерализмом, коммунизмом и фашизмом, фундаменталь-онтология могла и должна была выбрать только фашизм, хотя бы по принципу исключения. Но и фашизм оказался совсем не тем, чем он мог бы и должен был бы оказаться. И не потому что проиграл исторически и материально, а потому что в центре своей идеологии поставил не глубинные вопросы о Seyn-бытии, о Seynsgeschichte, о духовном месте Европы и Запада в глобальном цикле метафизики первого Начала, но технические вопросы власти, контроля, доминации, покорения, порабощения и захвата, то есть те вещи и ценности, которые и были прямым воплощением западного нигилизма, противостоять которому фашизм выбрал своей целью.
Глава 9. «Всё еще не»
Метафизика задержки
Выяснение отношения философии Хайдеггеру к политическим идеологиям Третьего пути подводит нас к очень тонкой проблеме, которую можно назвать проблемой задержки.
После того, как Конец западно-европейской метафизики осознан немецкой философией, оформлен Ницше и истолкован Хайдеггером, seynsgeschichtliche локализация «великой полночи» теоретически осуществлена. НО значит ли это, что она достигнута? Этот вопрос, в котором заведомо сквозит неуверенность, колебание, во многом объясняет парадоксы связи Консервативной Революции с историей Третьего Райха. Если Конец наступил и осознан, то в рамках seynsgeschichtliche истории Германии, как центра европейского мышления в эпоху Конца, может и должен состояться переход к другом Началу и собственно Ereignis. Пророческие видения Гельдерлина и философские предсказания Гегеля о «народе философов» должны достичь своей кульминации и вылиться в нечто великое и небывалое. Другого выхода просто нет.
И хотя в какой-то момент кажется, что это вот-вот произойдет, и то, что происходит и есть это, на самом деле, вновь выясняется, что эта возможность была эфемерной, а значит, что точка полночи снова не была достигнута. «Всегда это «все еще не», как Хайдеггер говорит в важнейшем тексте «К чему поэты?»
Судьба гитлеровской Германии однозначно и свидетельское положение в ней Хайдеггера, а также его личная судьба и судьба его философии, показывают, что и на этот раз «все еще не…», что случайные зарницы были приняты за первые далекие лучи наступающего утра, тьма от них стала только еще боле глубокой. Это было не то… И послевоенные тексты Хайдеггера полны мужественного отчаяния. То, что должно было произойти тогда и где это только и могло произойти, не произошло. Снова – «все еще не произошло». Две идеологии, в центре которых стоит откровенный онтологический нигилизм – либерализм и коммунизм одержали не просто военную, но философскую победу, значение которой тем выше, тем, что она была одержана не только извне, но и изнутри, поскольку политические идеологии Третьего пути не смогли и сами по себе окончательно встать на путь другого Начала а следовательно, проиграли еще до начала решительной битвы. Проиграла Германия, разделенная на две части. Проиграл Европа, оккупированная наполовину СССР, наполовину США, как двумя формами единого и бесконечного в свом ничтожестве зла. В какой-то момент в голосе Хайдеггера слышатся нотки безнадежности: техника, как судьба Запада, вступила в тотальность своих прав; ядерное оружие готово уничтожить землю, сравнять с ничто мир, и так погрязший в нигилизме, то, что наступила ночь, ужи не помнит никто, так как память о свете (пусть сумеречном и вечернем) прочно и надежно стерта; человек настолько забыл в своей «неаутентичности» о бытии, что просто не понимает больше, о чем идет речь. Хайдеггер говорит в своем интервью «Spiegel», опубликованном после его смерти: «Видимо, теперь нас может спасти только Бог». Показательная фраза для мыслителя, который всегда настаивал на том, что последний Бог не призван никого спасать; он просто приходит и проходит мимо, кивая людям обретшим свое признании «стражей бытия». Теперь же этот приход последнего Бога невероятен. Сама возможность «будущих» (kunftige) стать «будущими» закрыта всей тоталитарной планетарной мощью прошлого, не того что было, а того что прошло, проходит и пройдет уже в тот самый момент, когда настанет. А значит, больше некому петь пэан грядущему Богу. И в конце концов, некого спасать.
Так откуда же берется «это все еще нет»? Ответить на этот вопрос равносильно тому, чтобы разгадать тайну seynsgeschichtliche подоплеку внешнего и внутреннего поражения национал-социализма, а также логику судьбы самого Мартина Хайдеггера.
«Всё еще нет», а также ожидание скорого Ereignis, дыхание близости другого начала, объявление о курсе на фундаменталь-онтологию – что это? Не точное определение момента, места, мгновения? Это ошибка в расчетах, ожиданиях и локализациях, или дело в чем-то другом?
Человек Начала
То, как сам Хайдеггер задается этим вопросом про «все еще нет» вызывает ощущение, что в чем-то другом. Тогда — в чем?
Нам остается только гадать. Быть может, человеку в его классическом статусе, то есть как человеку Западному и сконструированному по выкройкам западно-европейской метафизики, в силу его идентичности вообще не недоступно подойти к точке великой полночи вплотную? Может быть, в том смысле, в котором человек является человеком (в смысле этой метафизики), он будет бесконечно кружиться в лабиринтах «всё еще нет»? Может быть, это «всё еще нет» является одной из конституирующих сторон человеческого существа? И тогда великая полночь не наступит никогда… Для человека она не наступит никогда. Следовательно, именно человек как явление является той причиной, по которой «все еще нет». И не только дело в том, что он не готов. Возможно, его сущность состоит в том, чтобы откладывать другое Начало всякий раз, когда веет его дыханием, его близостью, его сбыванием. Но в этом случае, проблема «все еще нет» решается через финальную решающую битву: между человеком Конца (куда включаются и недочеловеки, последние люди и даже сам сверхчеловек – как его понимал Хайдеггер, как высшее воплощение tecnh и воли к власти) и альтернативным человеком, человеком Начала. Человек Конца стремится быть бесконечным, и тогда, когда, казалось бы, ему остается только погаснуть, вместе с выключенным светом всего сущего, в своем электронном ничто «спровоцированной жизни» (Г.Бенн), он умудряется снова и снова множить бессмысленные витки своего нелепого возвращения с нарастающей степенью планетэр-идиотизма (либерализма), который (как мы знаем после опыта 90-х) оказался более продвинутой стадией нигилизма, нежели тоталитарно-массовая метафизика большевизма. Явно человек Конца собирается не- быть вечно, усугубляя свое не-бытия. Нельзя исключить, что «все еще нет» составляет последнюю идентичность самого человека, как «откладывающего», «медлящего», «задерживающего». В таком случае, кто – человек Начала? Кто он, способный сделать почти полночь полночью, столкнуть застывшее, взметнувшееся, заплетшееся в глубоко время, нежелающее отрубать последнее мгновение?
Соблазнительно было бы отождествить его со сверхчеловеком Ницше, если бы не хайдеггеровская трактовка сверхчеловека. По Хайдеггеру, Ницше есть фундаментальный мыслитель Конца, и даже «будущих» он видит как максимализацию воли к власти, движущей миром. Поэтому сверхчеловек, при всем его метафизическом обаянии, не подходит на роль человека Начала. Новый человек должен относиться к старому в совершенно перпендикулярном положении: для него человеческое в своем векторе всегда есть «все еще не…», как в героическом блеске этого «задерживания», так и в затертой банальности мелкой недочеловеческой трусости. Но такая перпендикулярность контрастирует с определением человека. Если человек есть «все еще не», то как бы он ни превращался бы в своей идентичности, он будет метаться только в рамках этого «все еще не…». И если вспомнить теперь первое Начало и резкость гераклитовского мышления, то мы увидим в нем четко очерченный горизонт того, что лежит за пределом человека. Это – логос (чей голос радикально отличен от голоса мыслителя); это даймон, который есть eqoz человека. Хайдеггер трактует это высказывание Гераклита «eqoz anqropo daimon» как указание на «место» (eqoz), где обитает божество (daimon), как истинный центр человека. Если антропос «все еще не», то daimon уже да! Нельзя исключить, что последняя отчаянная надежда позднего Хайдеггера на спасения, исходящая от «Бога» была обращена на спасение от «человека» как такового, на спасение «богом» (daimon) и его «местом» (eqoz) сущего в лучах Seyn-бытия от метафизической заразы человеческого. Поэтому человек Начала, способный упразднить затянувшегося человека Конца, смысл и суть которого и состоят в этой затяжки, будет «последним Богом». И в этом случае «мимохождение» последнего Бога будет иметь драматический смысл – спасая сущее и освещая истину Seyn-бытия, «последний Бог» обойдет в своем «наиприходящем приходе» беснующихся людей Конца, которые будут биться в удушающих сетях этой нескончаемости бесконечно. Человек нового Начала, таким образом, может быть уже здесь, уже прибывшим, уже проходящим – даже без того, чтобы человек Конца об этом догадывался. Самым страшным концом для человека Конца было бы сделать этот конец бесконечным.
Но тогда фундаменталь-онтология должна конституироваться в каком-то особом, уникальном направлении, без какой-либо корреляции с антропологией вообще, так как любая антропология немедленно погрузит нас во «все еще не».
Но кто-то уже да. И полночь в нем состоялась.
Глава 10. Хайдеггер как великая веха
Возвращаясь к началу этого раздела можно по-новому, с учетом высказанных положений о философии Хайдеггера, ее строе, ее эсхатологической направленности, осмыслить вектор мысли этого мыслителя. Хайдеггер считал самого себя чем-то аналогичным пророку или ясновидящему, который открывает в самый драматический момент истории Запада не просто грядущую развязку, но и смысл и причину истока и значение настоящего момента. Принимая или не принимая его «пророчество», толкуя его так или иначе, мы должны постоянно помнить, что речь идет о «пророчестве» в рамках западно-европейской философии, и только там оно имеет смысл, содержание и значение. Смотря на это извне, с позиций не западно-европейской философии или с позиций религии, или с позиций какого-то частного направления этой философии, от нас ускользнет не только вся острота его послания, но и его самый прямой и ясный смысл. Поэтому постижение Хайдеггера требует кардинального, корневого переосмысления западно-европейской философии, а если прежнее осмысление было так себе, весьма приблизительным (что имеет место в случае русской философии), то следует говорить не о переосмыслении, но о впервые ответственном и корректном осмыслении. Причем это осмысление может проходить не до знакомства с Хайдеггером а вместе с знакомством с Хайдеггером, и даже через знакомство с Хайдеггером. Мы сегодня не можем сказать, чем была русская религиозная философия XIX-XX веков, так как потеряна seynsgeschichtliche преемственность. Еще менее понятна нам советская марксистская философия, которая такое долгое время была всем, чтобы в одночасье стать ничем (проделав в обратном направлении судьбу мессианского явления на исторической арене пролетариата). Казалось бы, в религии мы можем найти точку опоры, но значительная часть религии представляет собой мысль, связана с логосом, есть богословие. Выстоит ли наше богословие в его нынешнем нестройном и непростом состоянии перед лицом философских обобщений и «феноменологической деструкции» хайдеггеровской мысли можно будет сказать только после того, как с этой мыслью мы должным образом познакомимся. Не раньше.
Поэтому Хайдеггер с его удивительным радикализмом, с его головокружительной резкостью в высказываниях и суждениях, может стать важнейшим стимулом в нашем переосмыслении Запада и нас самих – перед лицом Запада.
Но вместе с тем, следует избегать опасности абсолютизации Хайдеггера, принятие каждого его высказывания за финальную аксиому. Печальна судьба провидца, если он превращается в идола, в истукана. Провидец повествует о бытии, о жизни, о богах и судьбе мира, о том, что есть в данный момент, а значит, было и будет. Его слова живые и оживляются жизнью тех, кто их понимает, кто в них соразмышляет. А поэтому через живое понимание эти слова и тот, через которого они были высказаны, продолжают жить, а в некоторых случаях и только начинают жить по-настоящему. Если мы поймем Хайдеггера, мы сможем двинуться, отталкиваясь от этого понимания в любую сторону. Более того, совершенно все равно, что это будет за сторона – подтвердим ли мы основные моменты его философии, или откроем что-то еще, то что в ней не содержится иди даже, что ей противоречит. Тот, кто живет в мысли, тот оживляет тех, кто мыслил когда-то.
Хайдеггера следует воспринимать как Wegmarke, как дорожный знак, что по-гречески звучит как meqodoz, метод. У нас есть путь и есть знак. Остается только корректно его прочесть. И дальше мы вольны будем поступить как угодно.
Сноски
0-1) M.Heidegger Einfuehrung in die Metaphysik, Tuebingen, 1953, S.202; впервые работа опубликована в 1935!
0-1-1) Ernst Jünger: Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt. Klett-Cotta, Stuttgart 1982
0-1-2) Farias Victor, Heidegger and nazism, Philadelphia, Temple University press, 1989
0-1-3) Головин Евгений Приближение к Снежной Королеве, М., 2003
1) Долгое время занимаясь философией традиционализма ( в частности, см. Абсолютная Родина, Философия Традиционализма, Радикальный Субъект и его дубль), я не делал акцента на учении Хайдеггера, хотя на мое интеллектуальное становление оно повлияло самым прямым и непосредственным образом. Философии Хайдеггера мои взгляды, мое мировоззрение обязаны разве что чуть меньше, нежели идеям Генона. Хайдеггер — часть нашего мировоззрения, нашей политической теории, нашей философии, это sine qua non. Хайдеггер фундаментален не менее, чем Генон. Но он инаков. Сопоставление Хайдеггера с Геноном не должно быть проведено слишком поспешно. Надо тщательно освоить Генона отдельно, а Хайдеггера отдельно. Потом – только потом! – подумать о том, как они сочетаются (и в чем расходятся). Неверно толковать одного из другого. Ошибку слишком поспешного поверхностного толкования Хайдеггера с традиционалистских (обобщенно геноновских) позиций, на мой взгляд, совершил Эвола в «Оседлать тигра» (Ю.Эвола «Оседлать тигра», М., 2005), где он чрезвычайно некорректно и искаженно излагает идеи и терминологию Хайдеггера, и еще менее обоснованно и даже наивно их критикует.
2) Немецкое «Abgrund», то есть «бездна», термин столь важный для философии Хайдеггера, изначально означал именно «обрыв», «резкий вертикальный склон», «пропасть».
3) Ницше назвал одну из своих работ «Мы – филологи» (Ницше Ф.Избранные сочинения в 3 томах, т.3М., REFL-book, 1994. Чтение философии Хайдеггера это дело именно «филологов» в ницшеанском смысле.
4) А.Корбен «Свет Славы и Святой Грааль. Шиитская литература Грааля. Суфизм и София. Музыкальное чувство исламской философии» (http://www.fatuma.net/text/corbin/corbin00.htm), « Световой человек в иранском суфизме»/Волшебная Гора, М.,1998, «История и персидский мистицизм. Профетическая философия и метафизика бытия», М., 1985
5) С учетом того, что Корбен рассказывал об иранской мысли европейцам, а Хайдеггер говорил европейцам об их собственной традиции.
6) Вне индоевропейского контекста столь же развита философская терминология еврейской каббалы (где также осмысляются звучания, формы букв, смыслы основных корней) или исламского эзотеризма с опорой на арабский язык и священную книгу мусульман «Коран».
7) В качестве мировоззренческих и философских потенций в общей ткани индоевропейской культуры в тени остаются такие «абортивные цивилизации» (по терминологии Тойнби) как кельтская, летто-литовская (включая прусскую), фригийская (и их потомки румыны), а также исчезнувшие цивилизации минойцев, пеласгов, хеттов, тохаров, скифов, сарматов, алан. Возможно, реконструкция их философского послания еще ждет своего часа.
8) У В.В.Колесова есть блестящая работа о корнях и значениях древнерусских слов и их эволюции. (Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове, СПб, 2000)
9) Фундаментальным значением для реализации этой задачи обладают и труды Р.Генона и А.Корбена, которые методологически помогут понять, что именно мы стремимся обнаружить в общем наследии славянского и, уже, русско-славянского космоса.
10) Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Gesamtausgabe Bd 69, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1998 S.6
11) Heidegger M. Uber den Anfang. Gesamtausgabe Bd 70, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2005 s.107
12) Равно как и его учителю Э.Гуссерлю. Для Гусерля вопрос «…несет ли европейское человечество в самом себе абсолютную идею, есть ли оно эмпирически фиксируемый антропологический тип, подобно тому, каким являются жители Китая или Индии; в этом случае не представляет ли собой европеизация других народов свидетельство абсолютного смысла, входящего в смысл мира и далекого от исторической бессмысленности?» -- чисто риторический, конечно же, «европейское человечество несет в себе абсолютную идею». (Э.Гуссерль « Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология».СПб.,2004). Так же считал и Хайдеггер, имплицитно или эксплицитно в этом уверены практически все люди Запада.
13) Heidegger M. Uber den Anfang, op. cit. S. 107
14) Или «differAnce» (через «а») у Дерриды.
15) Diels H. Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch. Berlin, 1903
16) Heidegger M. Heraklit 1. Der Anfang des abendländischen Denkens (Heraklit). (1943).
2. Logik. Heraklits Lehre vom Logos (1944), Gesamtausgabe Bd 55, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1987
17) Для того, чтобы подчеркнуть специфичность именно хайдеггеровского понимания вопроса о бытии, я предлагаю использовать немецкую формулу «fundamental-ontologische», которой пользуется сам Хайдеггер (с сохранением немецкого смягчения звука «l») в русском тексте – также, как в некоторых случаях мы используем другие хайдеггеровские термины – в частности, «Dasein», «Geviert», «Ge-Stell», «Das Man», оставляя их без перевода, чтобы подчеркнуть уникальный смыл, который это философ вкладывал в свои тщательно подобранные слова, возводимые им к истокам философско-поэтического и этимологического значения. «Фундаменталь-онтология» это не «фундаментальная онтология», а то как Хайдеггер понимает наиболее глубокий уровень онтологического рассмотрения, но только в рамках своего уникального учения о природе и структуре Dasein (этому посвящены раздел 3 «Dasein» и вторая часть книги) и в контексте нового Начала. В некоторых случаях он пользуется выражением «онто-онтология», чтобы подчеркнуть, что фундаменталь-онтология не есть еще один надстроенный логически этаж над онтикой, но, напротив, такое мышление о бытии, которое сохраняет постоянной свежесть прямого контакта с онтическим, как формой экзистирования Dasein'а.
18) Heidegger M. Sein und Zeit (1927), Max Niemeyer verlag, Tubingen, 2006
19) Там же.
20) Этому посвящен третий раздел данной книги.
21) Тему Ereignis мы рассмотрим чуть позже в этом же разделе.
22) Последние и не догадываются, как правило, что они мыслят именно так, и что они вообще мыслят.
23) Трудности перевода слова «Zeit» русским аналогом «время» подробно рассмотрены в Разделе 3. Dasein.
24) Heidegger M. Geschichte des Seyns, op. cit. S.142
25) См. Смерть и ее аспекты/А.Дугин «Радикальный субъект и его дубль», М.2009
26) Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории.СПб.: Наука, 1993
27) Heidegger M. Geschichte des Seyns, op. cit. S.26
28) Об этом подробно в следующем разделе.
29) Heidegger M. Der Spruch des Anaximander /Holzwege, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2003
30) Heidegger M. Holzwege, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2003
31) Платон. Собр. соч. в 4-х томах. Том 2. М.: "Мысль", 1993 фрагмент 155 d «Собственно философом является тот, чьим пафосом (чьей страстью) является удивление (изумление -- qaumazein); нет у философии иного начала».
32) Аристотель Метафизика, М., - Издательство: Эксмо, 2006 – фрагмент А 2 982 2 sq «Через удивление человеку и раньше и сейчас открывается путь к философствованию».
33) См. также Heidegger M. Was ist das – die Philosophie? Pfullingen, Gunther Neske Verlag, 1956
34) См. сноску 15)
35) Heidegger M. Der Spruch des Anaximander /Holzwege, op. cit.
36) См. сноску 15)
37) Аристотель. Физика. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 3. М. 1981
38) В старославянском и церковно-славянском было такое слово – «рѣснота», означавшая «истинность», «ясность», которое по смыслу ближе всего к греческому ἀλήθεια, ἀληθής.
39) «Im ersten Anfang, da die fusiz in die alhqeia und als diese aufleuchtete, war das Er-staunen die Grundstimmung. Der andere Anfang, der des seynsgeschichtlichen Denkens, wird angestimmt und vo-gestimmt durch das Entzetzen.» Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1989, S. 483-484 Дословно: «В первом Начале, когда природа сияла в истине и как истина, удивление было главным стимулом. Другое Начало, Начало seynsgeschichtliche мышления, будет настраиваться и предуготовляться ужасом».
40) Heidegger M. Parmenides, Gesamtausgabe Bd 54, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1982
41) Heidegger M. Geschichte des Seyns op.cit, и Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), op. cit.
42) В русском языке сохранился тот же индоевропейский корень в глаголе «видеть» как и в греческом. То есть «идеи» можно представить как «виды» или «видения» -- подразумевается, виды изначальных образцов, образов. Весьма показательно, что от того же индоевропейского корня образовано и слово «ведать», «знать», откуда такие слова как «ведение», «сведение», «весть», «известность», «известие» и т.д. В немецком слово Wissen, «знание», восходит к той же индоевропейской основе.
43) Платон. Государство//Сочинения в 3тт., т. 3, М., 1971
44) Надо учесть также, что Хайдеггер понимал под «теологией» только западно-христианскую (католико-протестантскую) ветвь теологии, его любовь к Греции на православие не распространялась.
45) Я понимаю, что это несколько легковесно звучит для людей, понимающих все значение Традиции (например, в ее геноновской интерпретации). В этом месте каждый традиционалист (даже начинающий) способен что-то возразить. Но мы этот цикл сознательно опустим. Прежде, чем начать сопоставлять великие интеллектуальные конструкции, надо сначала понять каждую из них, как она есть. Не будем спешить, восклицая: «стоп, здесь я не согласен!»
46) О значении немецкого слова «Ding» более подробно речь пойдет во втором разделе Das Geviert.
47) См. главу «Магический большевизм Анрея Платонова» в А.Дугин «Русская Вещь», М., 2000
48) Heidegger M., , Nietzsche I. 1936- 39, Nietzsche II. 1939-46, Gesamtausgabe Bd 6, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1996; Heidegger M.Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst 1936, Gesamtausgabe Bd 43, 1985; Heidegger M. Nietzsches Metaphysische Grundstellung im abendländischen Denken: Die ewige Wiederkehr des Gleichen. 1937, GA, Bd.44, 1986; Heidegger M. Nietzsches II. Unzeitgemässe Betrachtung. 1938, Bd. 46, 1989; Heidegger M.Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht als Erkenntnis. 1939, Bd. 47, 1989; Heidegger M.Nietzsche: Der europäische Nihilismus.. 1940, Bd. 48, 1986; Heidegger M. Nietzsches Metaphysik (1941-2). Einleitung in die Philosopie - Denken und Dichten (1944-45), Bd. 50, 1990.
49)«Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите» (Ис. 21:11—12).
50) M.Heidegger Einfuehrung in die Metaphysik, Tuebingen, 1953
51) Софокл. Антигона. перевод Д. С. Мережковского, Ростов-на-Дону, 1997
У Мережковского все переведено гладко, но весьма приблизительно.
Хор
Строфа I
В мире много сил великих,
Но сильнее человека
Нет в природе ничего.
Мчится он, непобедимый,
По волнам седого моря,
Сквозь ревущий ураган.
Плугом взрывает он борозды
Вместе с работницей-лошадью,
Вечно терзая Праматери,
Неутомимо рождающей,
Лоно богини Земли.
Антистрофа I
Зверя хищного в дубраве,
Быстрых птиц и рыб, свободных
Обитательниц морей,
Силой мысли побеждая,
Уловляет он, раскинув
Им невидимую сеть.
Горного зверя и дикого
Порабощает он хитростью,
И на коня густогривого,
И на быка непокорного
Он возлагает ярмо.
Строфа II
Создал речь и вольной мыслью
Овладел, подобной ветру,
И законы начертал,
И нашел приют под кровлей
От губительных морозов,
Бурь осенних и дождей.
Злой недуг он побеждает
И грядущее предвидит,
Многоумный человек.
Только не спасется,
Только не избегнет
Смерти никогда.
Антистрофа II
И, гордясь умом и знаньем,
Не умеет он порою
Отличить добро от зла.
Человеческую правду
И небесные законы
Ниспровергнуть он готов.
Но и царь непобедимый,
Если нет в нем правды вечной,
На погибель обречен:
Я ни чувств, ни мыслей,
Ни огня, ни кровли
С ним не разделю!
52) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1989
53) Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Gesamtausgabe Bd 69, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1998
54) Heidegger M. Uber den Anfang. Gesamtausgabe Bd 70, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2005
55) M.Heidegger Einfuehrung in die Metaphysik, op. cit.
56) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), op. cit., S. 227
57) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), op. cit., S. 228-229
58) Русское слово «событие» при всей соблазнительности его использования, ведь Хайдеггер вкладывает в Er-eignis именно смысл, связанный с Seyn-бытием, едва ли проясняет нам хайдеггеровскую мысль в данном случае. Скорее, оно имеет смысл «выпало счастье», «случилось», «приключилось». «Событие сбывается» в русском языке имеет некоторую предопределенность, фатальность (так сбываются ожидания). Ereignis скорее выпадает на долю, нападает, молниеносно обрушивается. Это полночная гроза, где молния внезапно озаряет черный пейзаж пронзительным неестественно ярким светом.
59) Об этом мы поговорим подробнее в следующих разделах.
60) Термины «eigene» и «uneigene» (аутентичное и неаутентичное) применительно к фундаментальному понятию «Dasein» мы рассмотрим в третьем разделе.
61) Heidegger M. Holzwege, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2003 – стр. 327
62) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), op. cit., S. 256
63) Heidegger M. Geschichte des Seyns (1938/1940). Gesamtausgabe Bd 69, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1998, S.105
64) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), op. cit., S. 410
65) Ibidem, S. 411
66) Ibidem, S. 414
67) Heidegger M. Brief über den Humanismus (1946). Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1949
67-1 Heidegger M. Uber den Anfang, op. cit., S. 127
67-2 Ibidem S. 127
68) Heidegger M. Sein und Zeit (1927), Max Niemeyer verlag, Tubingen, 2006, SS.19-27
69) Слово «метод» происходит от греческого meqodoz – meta- «через», «по», «за» и odoz, «путь», «дорога» и изначально означает «размещение дорожных указаний, отметок», Wegmarken по-немецки.
70) Фридрих Ницше, сочинения в 2-х томах, том 2, издательство «Мысль», Москва 1990.
71) По-гречески, idion означает, частный, относящийся только к данному лицу и ни к кому больше. «Идиотами» в Древней Греции называли людей, не представляющих никого, кроме самих себя – ни полис, ни процессию, ни сословие, ни род.
72) Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). op. cit. S.74
73) Ibidem, S. 195
74) Ibidem, S. 191
75) Ibidem S.120
76) Armin Mohler Die konservative Revolution in Deutschland, 1918-1932. Grundriss ihrer Weltanschauungen, Stuttgart: Friedrich Vorwerk Verlag, 1950
77) Niekisch Ernst Hitler - Ein deutsches Verhängnis, Widerstandsverlag Berlin, 1932
78) См. сноску 75)
![]()
Раздел 2. DAS GEVIERT
Глава 11. Введение в das Geviert
Значение слова «das Geviert»
Das Geviert — по-немецки означает «четверица», «четверка», «четверичность». Образ и структура das Geviert являются фундаментальным моментом хайдеггеровской мысли. Благодаря введению das Geviert мы лучше поймем основные силовые линии его философии -- различие между Seyn и Sein, второе Начало, Ereignis, зазор между онтологией и фундаменталь-онтологией и т.д.
Das Geviert символически можно изобразить в виде двух перекрещивающихся линий, напоминающих Андреевский крест.
 |
Но в некоторых случаях сам Хайдеггер пользуется и вертикальным расположением
 |
Мы зафиксируем оба расположения как возможные. В первом случае акцентируется относительная оппозиция верхних (рядоположенных) концов креста нижним, во втором – наложение вертикальной оппозиции горизонтальной.
Следует сразу иметь в виду, что данная схема представляет собой не пространственное изображение, но структуру философской и фундаменталь-онтологической топики; это образ, относящийся к Seyn-бытию и мышлению об истине Seyn-бытия. Это не сущее и не изображение сущего, но вместе с тем это и не символ, указывающий на что-то иное, нежели он сам. Das Geviert и как слово и как знак мыслится Хайдеггером как выражение метода (по-гречески дословно «указание пути») фундаменталь-онтологического взгляда на само Seyn-бытие через свет его присутствия. Поэтому будет правильным всячески воздерживаться от каких бы то ни было поспешных сравнений das Geviert с тем, что нам известно о значение креста, числа 4 и т.д. Любые аналогии будут обманчивыми и неуместными – особенно на первом этапе, пока острота хайдеггеровской мысли нам не ясна. Попытка соотнести das Geviert чем-то нам известным, или с тем, что мы думаем, что нам известно, будет губительна. Das Geviert – это то, что почти наверняка вы не знаете, о чем вы никогда не думали и с чем никогда не сталкивались. Только в таком случае вся свежесть этого явления – как явление чего-то, что ранее не было явлено – будет по-настоящему нам явлена.
Слово Das Geviert и его схематические изображения появляются у Хайдеггера в конце 30-х годов в набросках к лекциям и книгам в цикле, связанным с темами Seynsgeschichte и Ereignis(1) и получают позже, в 50-е годы, развитие в толковании поэзии Гельдерлина(2) и исследовании проблем языка(3). Полнее всего эта тема развита самых поэтических текстах Хайдеггера – таких как «Вещь», «Строить, жить, думать» и т.д.. вошедших в сборник «Лекции и статьи 1936-1953 гг.»(4). Принято считать, что проблематика das Geviert относится к последнему периоду творчества Хайдеггера и составляет лейтмотив финальной части его поздних трудов.
С точки зрения смысловой периодизации хайдеггеровской философии, можно сказать, что тема das Geviert является кульминацией его размышлений среднего периода (30-40-е) о Ereignis и другом Начале. По сути das Geviert есть вспышка, освещающая последним светом всю структур (Gefuge) хайдеггеровской философии. Это – Lichtung (освещение, залитость светом, высвечивание) Seyn-бытия, открывающаяся на пике мышления, сосредоточенного на другом Начале. Введение das Geviert само по себе есть Ereignis.
Четверица (Geviert) и Seyn-бытие
К теме das Geviert Хайдеггер подходит через толкование своего любимого поэта Гельдерлина, философская интерпретация гимнов которого приводит Хайдеггера по строению особого видения сущего – через Seyn-бытие.
Das Geviert открывается Хайдеггеру как структура (Gefüge) Seyn-бытия в ее чистом виде. Бытие четверично. У четверицы ничего нельзя изъять. Четверица существует всегда как четверица и только как таковая. Иначе выражаясь, ничего от нее отрезать и ничего к ней добавить мы не можем.
Хайдеггер вводит das Geviert как замену тринитарной диалектике Гегеля. Если Гегель говорил о «тезисе — антитезисе — синтезе», то Хайдеггер утверждал: не три, но четыре(5). Причем все четыре сразу. В некотором смысле обращение к четырем, было и критическим шагом в отношении христианской троичности. Но сразу следует оговориться, что Хайдеггер рассматривал христианство как модель западно-христианского богословия, и поэтому его интересовал исключительно философское значение троичности –как этот принцип включен в объяснение структуры сущего и в устройство онтологии. Поэтому гегелевская триада была для него важнее, нежели собственно христианский догмат.
Троичность выражает топику старой метафизики и платоновской онтологии, где на место Seyn-бытия поставлено Sein-бытие как сущность сущего, как сущее-в-целом. В этой тринитарной топике закреплена референциальная теория истины, всегда стремящаяся возвести отношение познающего к познаваемому к третьей инстанции, что и составляет основу метафизики. Фундаменталь-онтология должна обратиться с онтическим полем сущего и стоящим среди него мыслящим человеком (первый уровень дистанцирования) иным образом – избегнув ловушки тринитарного принципа, смысл которого заключается в доминации tecnh, что и проявляется окончательно в современном западно-европейском нигилизме – последнем воплощении тринитарности. Das Geviert – это одновременно и инструмент «феноменологической деструкции» (деконструкции) старой метафизики, и триумфальный результат ее осуществления.
Seyn-бытие, обнаруживая себя, высвечивая себя (Lichtung), давая о себе знать, открывает себя через das Geviert, через четверицу. Бытие никогда не бывает одиноко, оно немонистично (но и не троично, а также и не двоично). Оно проявляется совокупно как четыре, но и при этом никогда ни один из элементов этой четверицы не выступает самостоятельно. Seyn-бытие и das Geviert — почти одно и то же, потому что там, где бытие не порождает (не про-из-водит – juzein) сущего, там мы не можем говорить о бытии, а там, где оно проявляет сущее, там оно обязательно при-сутствует, но никогда оно не присутствует целиком и полностью, и всегда в этом присутствии одновременно от-сутствует. При этом всегда и в любых обстоятельствах Seyn-бытие дает о себе знать (не давая о себе знать, скрывая себя) в четверице.
Мы не можем помыслить Seyn-бытие как-то иначе, заходя «с другого конца». Одной из самых ошибочных позиций в отношении бытия была мысль о нем со стороны сущего. При таком подходе сколько бы мы ни удалялись от сущего, мы рано или поздно спроецируем его на бездну, ужас которой будет только нарастать по мере удаления от сущего. Вместо полета мы создадим берег, стоянку, твердую почву, твердь. Мы не вынесем опыта неба, и обязательно начнем мыслить о «небесной земле» или о «земном небе». Поэтому фундаменталь-онтологическим действием будет взгляд не на бытие со стороны сущего, но на сущее со стороны бытия. Этот взгляд в его конкретности и радикальном переворачивании всех пропорций и есть das Geviert.
В тот момент, когда мы мыслим Seyn-бытие верно, через свет его собственной истины, через его существование, в ужасе абсолютного одиночества, в предельной дали от всего сущего, в опыте бездны, тогда-то мы и сталкиваемся со всей четверицей сразу, тогда-то она нам и открывается.
Чрезвычайно важно заведомо понять, что das Geviert не есть онтическое восприятие мира, что можно было бы неверно заключить из ее противопоставления тринитарной онтологической топике, хотя в этом наблюдении и есть доля истины. Но онтическое мышление – прямые аналоги которого мы, на самом деле, увидим в четверице – не знает ничего о бытии и не задается этим вопросом. Оно растворено в четверице, но не знает от четверице. Он вытекает из четверице, но не схватывает ее в живом мгновении фундаментального события. Оно не догадывается о том, что das Geviert -- это das Geviert, оно не называет его по имени, не высказывает его бытия. А следовательно, оно, находясь в das Geviert'е, теряется в нем, растворяется в нем, не есть в нем, не существует (по сути – west da nicht). Поэтому разговор о das Geviert относится к области фундаменталь-онтологии, а не онтики и не старой онтологии. Это разговор в регистре другого Начала, и вести его можно только в том случае, если мы так или иначе проследовали за Хайдеггером по основным этапам его рассмотрения Seynsgeschichte, другого Начала и сосредоточились на Ereignis'е.
Das Geviert дается нам как открытое окно в бездну, то есть как высший подарок и предполагается, что мы сумеем его оценить.
Состав четверицы (Geviert'а)
Четверица это -- небо (Himmel), боги или Бог (в целом божественное), человек (смертный) и земля. Эти четыре фигуры, четыре области мира, входящие в das Geviert оставались у Хайдеггера неизменными. Правда, Хайдеггер до 50-х годов вместо того, чтобы говорить о небе (Himmel), говорил о мире (Welt), приравнивая мир к небу. Позже он стал говорить именно о небе. Тем не менее, взаимозаменяемость неба и мира в четверице надо постоянно иметь в виду. Небо и мир суть выражения открытого порядка.

 Небо (мир) Боги
Небо (мир) Боги
Люди Земля
Схема Das Geviert
Досократики использовали для определения мира слово космос, означающий не мир в нашем понимании, а скорее, порядок, гармонию, устроение. Космос — это порядок, или красивый порядок, это лепота, то есть нечто организованное в прекрасный строй. Древние использовали так же синонимическое понятие ouranuz, ourania (небесное), потому, что истоком порядка, сущностью порядка и миром как таковым они считали небо. Мир и небо были тождественны. Потому-то Платон и поместил свои идеи на небо. Это внутреннее тождество неба и мира принципиально для понимания das Geviert. Позже Хайдеггер говорил, что die Welt (мир) и есть das Geviert, но одновременно небо само по себе у него предстает самостоятельным элементом das Geviert.
Война в четверице (Geviert'е)
Хайдеггер видит исток das Geviert в формуле Гераклита о войне как отце вещей. Гераклит говорит: «Война – отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других – людьми, одних творит рабами, других – свободными»(6), и также – «Должно знать, что война общепринята, что вражда – обычный порядок вещей (dike) и что все возникает через вражду и взаимообразно»(7).
Таким образом, поскольку для Хайдеггера бытие в качестве войны, гераклитовского πολεμος как «отца вещей», и есть форма бытия в генетическом смысле (бытия с точки зрения происхождения), то, соответственно, именно давлению войны, присутствующему в каждой точке das Geviert, в каждом его сегменте, мы обязаны простертым перед нами, или над нами, вокруг нас принципиально четверичным сущим. Мы являемся ни чем иным, как продуктом войны, поскольку война отделила нас от богов и сделала нас людьми, с другой стороны, именно война соединила нас с богами, поставила нас на землю, и накрыла небом.
Война – polemoz – это имя бытия как Seyn. В этом, по Хайдеггеру, состоит глубина собственно фундаменталь-онтологии. Корни такого понимания бытия как войны уходят в проблему Ничто. Хайдеггер определяет ничто в структуре фундаменталь-онтологии как «ничтожение в Seyn-бытии» (das Nichten im Seyn). Считать, что Seyn-бытие есть и есть всегда как нечто неизменное и вечное, глубокое заблуждение. Seyn-бытие сбывается (sich er-eignet), оно всегда свежее, всегда рискованно и никогда не дано заведомо. Более того, чтобы разбить иллюзию такой гарантированности своего неизменного экзистирование оно обращается к сущему и человеку своей ничтожащей стороной. Тем самым оно доказывает смертность смертного, конечность конечного и уникальность самого себя как события (Ereignis). Бытие дает о себе знать не в мире, но в войне, именно потому, что оно одновременно вводит «да» и «нет». Здесь снова модно вспомнить Гераклита, утверждавшего: «Гомер, молясь о том, чтобы «вражда сгинула между богами и меж людьми», сам того не ведая, накликает проклятье на рождение всех»(8). Отделив «ничто» как «ничтоженье», «уничтожение» от Seyn-бытия, мы теряем его самого, так как лишаем его возможности случиться, а следовательно, существ родиться – родиться в борьбе и к борьбе. Превратив бытие к сущее в целом, мы упускаем его творческую мощь делать сущее не-сущим, чтобы привести не-сущее к сущему, а следовательно, подменяем его чем-то другим.
Das Geviert – это именно Seyn-бытие, которое сбываясь в Ereignis'е, привносит войну во все, учреждая напряженность великих осей мира. Мир(9) – это война.
Небо
Небо — это то, что дает порядок, то, что делает любую вещь тем, чем оно является. Оно высвечивает, оно определяет, оно устраивает, оно снабжает мир и части мира, сущее тем, что Хайдеггер называл достоинством (Würde), αξιος. Оно делает вещь ценной именно благодаря тому, что вещь и есть она сама, и определяет тайно, таинственно ее внутренне достоинство. Это -- упорядоченное сущее, сущее в целом.
Небо открывается и развертывается и тем самым открывает и развертывает. Оно делит и наделяет.
Небо есть мир в его открытости. Это -- лицо мира обращенное к самому себе, к тем, кто смотрит на мир. Взгляд на мир – это взгляд на небо, и взгляд неба на самого себя. Небо есть область света, который высвечивает, просвещает, открывает.
Небо принципиально открыто. Оно не имеет предела, границы в самом себе. Поэтому Небо – не сущность, не объект, не явление, но ориентация, область, бескрайний край священной географии бытия.
Небо и мир
Мы сказали выше, что у Хайдеггера Небо выступает как фундаменталь-онтологический синоним мира(9-0) (die Welt). Мир и Небо выражают нечто близкое и почти тождественное – отсюда их взаимозаменяемость в Geviert'е.
Мир (как свет), по Хайдеггеру (как и Небо) – выражение открытости (Offene), в этом состоит его основное свойство. Мир открывает и освещает, делает явным и непокрытым. При этом сущее, становясь миром, утверждаясь как мир, получает печать порядка упорядоченности; каждая вещь обретает свои свойства и свои места.
Хайдеггер пишет(9-1):
«Вместе с тем, как мир открывает себя, все вещи обретают свое промедление и свое ускорение, свою дальность и свою близость, свою ширину и свою узость».
Мир – то, что открывает пути. Очень важно заметить, что Хайдеггер понимает мир ( и соответственно Небо) как нечто глубинно сопряженное с народом (Volk). Мир народен, а значит народно и Небо. Вне народа и его языка, его творчества, мир утрачивает себя, рассыпается, перестает быть миром. И наоборот, открытость мира напрямую сопряжена с открыванием путей для народа.
«Мир есть открывающая открытость широких путей простых и сетевых (wesentliche) решений в судьбе (Geschick) исторического (geschichtliche) народа»(9-2). Народ в своей сути есть тот, кто принимает решение; где принимается решение, и как оно принимается. Народ есть место принятия решения. Пути народа в истории выражают его отношение к миру и Небу, проявленное через судьбоносные решения. Важно, что речь идет именно о народе, а не о человеке. Это связано с той ролью, которую Хайдеггер отводил речи. Речь – это существование Seyn-бытия, проявляющееся через человека. Но эта речь всегда основана на языке. А язык отличает не человека от человека, а народ от народа. Различия между народами и языками составляют богатства Seyn-бытия. Поэтому народу вместе с языком дается ракурс взгляда на мир и Небо. Этот взгляд и есть язык. Поэтому мир открывается народу в языке, и через язык народ принимает то решение, которое будет его судьбой. Решение принимает не человек, но народ. И это решение всегда связано с языком. Возможностью и необходимостью этого решения выступает мир как открытое. Открытость мира проявляется в решении народа.
«Мир есть освещение дорог сутевого указания (wesentliche Weisung), в котором структурируется все решение.»(9-3) Решение (через речь) принимает народ, но структура этого решения диктуется (указывается) миром.
Земля
Земля у Хайдеггера — это то, что приводит всё к наличию (Anwesen). Благодаря земле множество вещей, предметов, ощущений становятся присутствующими, наличествующими, по-русски говоря — «находятся при сути». Земля это то, на (чем) стоят, на-стоят, стало быть, являются «на-стоящим». Земля делает сущее настоящим. Благодаря небу, вещи являются тем, что они есть, а благодаря земле они являются настоящими, они пред-лежат миру, они растянуты, они присутствуют.
Главное свойство Земли, по Хайдеггеру, это закрытость, опечатанность. Небо и мир открывают, они существует как открытое и открывающее. Земля скрывает, закрывает, запирает, прячет. Но вместе с тем она хранит. В фундаменталь-онтологическом перводвижении Seyn-бытия открытость соседствует и чередуется с несокрытостью, с открытостью.
Мы говорили ранее, что Хайдеггер соотносит мир с народом. Менее эксплицитно, он соотносит с народом и Землю. Но это можно вывести только на основании его косвенных замечаний. В одном месте, рассуждая о фундаменталь-онтологическом смысле войны немцев с русскими (имеется в виду Вторая мировая война, осмыслявшаяся Хайдеггером как противостояние германского начала не столько русскому, сколько большевистскому, коммунистическому – как крайнему выражению западно-европейской метафизике в форме Machenschaft'а), Хайдеггер писал:
«Каждый мир открывает себя и остается сопряженным с Землей. Каждый мир и каждая Земля суть в целом своей взаимопринадлежности друг другу явление историческое (geschichtliche).(…) Земля будущего лежит под паром в пока еще не освобожденной для самой себя сути русскости. История (Geschichte) мира (Welt) возложена на самосознание (Besinnung) немцев.»(9-4)
Здесь важно, что Хайдеггер связывает мир (Welt) и Землю с народом и народами. Это в чем-то напоминает теорию древнегреческого философа-досократика Ксенофана Колофонского считавшего, что в разных областях Вселенной существуют разные небеса и разные земли, похожие друг на друга, но тем не менее отличающиеся. У Хайдеггера эта гипотеза получает обоснование через язык как суть человеческого. Сам Хайдеггер считает различие в языках и диалектах следствием различия географических ландшафтов, отраженных в речи. НО так как язык – это способ существования Seyn-бытия, то народ – со своей Землей и своим Небом (миром) – представляет собой всегда уникальное отношение к Seyn-бытию. Именно народ (Volk), а не отдельный индивидуум (субъект), так как язык вверяется именно народу в целом.
В немцах Хайдеггер видит начало открытых путей, самосознание, мир, Небо. В русских он подводит суть Земли, как сберегающей закрытости, хранительницы будущего. Битва немцев с русскими становится космогонической битвой, в которой учреждается новое Небо и новая Земля. германское Небо и русская Земля.
Ураногеомахия
Между Небом и Землей существует напряжение, ось войны. Вокруг этой оси строится Вселенная.
Небо и Земля противоположны во всем. Земля, в отличие от Неба, всегда закрыта, она повернута к миру спиной, ее лицо скрыто. Никто не знает, как выглядит это лицо, и есть ли оно вообще. Небо не имеет конца вглубь и ввысь, земля в ширь. Но при этом битва Неба (мира) и Земли не есть столкновение между собой двух жестко и строго разделенных сущностей.
Мир и Земля по сути отличны друг от друга, но никогда не разделены друг с другом. Мир основывается на Земле, Земля вздымается сквозь мир. Но отношения мира и земли не тускнеют и в пустом единстве бессодержательного противопоставления. Мир в своем покоинии на Земле, стремится возвысить, вздыбить ее. Мир, будучи самооткрытостью, не выносит никакой замкнутости. Земля же, как сохраняющая склоняется к тому, чтобы всякий раз вбирать мир в себя и удерживать в себе.
Противостояние мира и Земли есть настоящая война, битва.»(9-5)
Эта война – ураногеомахия (или космогеомахия) – открывает для каждой стороны ее есть, ее связь с Seyn-бытием, которое для обоих одно, но относится к обоим совершенно по-разному. В Небе и мире Seyn-бытие выражает себя как освещение, открытость, несокрытость. Это aleqeia, истина несокрытости бытия в сущем и сквозь сущее, через выделенное место в середине, где бытие дает о себе знать через открытое. Земля же открывает иную сторону Seyn-бытия, «ничтожащую», скрывающую, но вместе с тем хранящую, сберегающую, закрывающую и укрывающую. В своем отношении к Seyn-бытию Земля бездонна, она есть Abgrund. Ксенофан Колофонский, по сведениям некоторых древних авторов, учил, что Земля является главным первоначалом, и что она корнями уходит в бездну, вечно падая в своей бездонности.
Ураногеомахия есть естественное и единственное выражение Seyn-бытия через сущее, в сущем, сквозь сущее и против сущего. В этой войне Неба и Земли, где каждый, воюя, восходит к своей сути и начинает по-настоящему быть, проявляется еще более глубинный процесс – война Seyn-бытия против сущего, которая и делает Seyn-бытие и сущее ими самими.
Боги Начала
Божественное (боги) и люди являются полюсами второй оси. Хайдеггер очень осторожно употребляет слово «бог», «Бог». Хотя в поздних работах он всё чаще и чаще говорит о «божественном», о «божественности», о «божественных». Эти сущности фундаментально необходимы das Geviert, но Хайдеггер избегает в их отношении четкой и ясной дефиниции.
Если человек, как мыслящее существо, постоянно присутствует в das Geviert и его наличие, несомненно, то богам свойственно убегать(10), причем божественные скрываются даже тогда, когда показывают себя.
«Божественные» — особый вид сущего (и бытия одновременно), который чрезвычайно легок и тонок, чья функция предельно не утилитарна. «Божественные» как бы «щекочут» мир, не добавляют в нее никаких тяжелых фундаментальных элементов, ничему не обучают людей (воровать огонь и устанавливать ремесла – дело титанов и трикстеров). «Божественные», скорее, придают всему das Geviert, всей четверице своего рода прозрачное опьянение (11). Божественное присутствие, даже следы божеств предваряют четверицу развернутых вещей, предметов, состояний и мыслей, придавая им незаметный внутренний ток.
Богов и людей разделяет в первую очередь отношение к Seyn-бытию. Это, пожалуй, одна из самых трудных сторон философии Хайдеггера. Хайдеггер утверждает: «Боги нуждаются в Seyn-бытии». Хайдеггер пишет:
«Бытие не стоит «над» богами; но и они не стоят «над» бытием. НО боги пользуются бытием, и в этом высказывании осмысляется Seyn-бытие. Боги нуждаются в Seyn-бытии, чтобы через него, не принадлежащего им, принадлежать самим себе. Seyn-бытие – это то, что нужно богам, оно – их потребность, их нужда; им его не хватает.»(12) И далее он уточняет отношение богов к философии:
«Так как Seyn-бытие есть нужда богов; и вместе с тем оно находится только в обдумывании своей истины, а это обдумывание, в свою очередь, есть не что иное как философия (другого Начала), то боги нуждаются в seynsgeschichtliche мысли, то есть в философии. Боги нуждаются в философии не так, как если бы они собирались философствовать по поводу своего обожения, но философия должна состояться (быть, стать, sein), если (wenn) боги должны будут еще один раз вступить в стихию решения и добыть для Geschichte (истории как судьбы) основания для ее сути. Богами будет предопределяться seynsgeschichtliche мысль, как мысль Seyn-бытия.»(13)
Важно, что Хайдеггер мыслит «богов» вне какой бы то ни было религии. Бог религии, рассуждает он, есть ничто иное как имя в метафизической топике, где на месте бытия поставлено сущее, как наисущее, высшее сущее, первосущее. Поэтом боги религии ничтожны и умирают вместе с падением метафизики в современный нигилизм. Это боги по названию и в структурах ложного мышления. Единственная божественность, достойная самой себя и самих богов, а пределе и одного Бога (если сами боги решат, что среди них есть только один, кто по-настоящему Бог) – это божественность, сопряженная с Seyn-бытием, а не разнообразными изданиями «платонизма для масс». Божественность не должна быть чем-то наличествующим, сущим, не должна удовлетворять чаяниям человека. Если она возможна, то только на экстатическом горизонте фундаменталь-онтологии, балансируя на грани истины Seyn-бытия, как сути Seyn-бытия.
Можно сказать, что боги Хайдеггера являются богами фундаменталь-онтологии и теснейшим образом сопряжены именно с ней, с ее возможностью, с другим Началом. Поэтому и последнего Бога Хайдеггер смыслит как «бога Начала».
Еще одно важное свойство богов Хайдеггера. Эти боги, которые не суть (sind nicht), в том смысле, что они не являются сущими (Seiende). От сущего они удалены на максимальную дистанцию. Этих богов нет. Но то, что их нет, делает их по-настоящему живыми и священными. Своим нет они и конституируют измерение священного – Heilige. В отличие от старой онтологии, которая мыслила бытие как самое сущее из сущего, а и от апофатической философии, которая мыслила бытие как ничто, не-сущее и даже еще более не-сущее, чем боги, фундаменталь-онтология располагает Seyn-бытие и его истину между – между богами и сущим(14).
В определенной перспективе само Seyn-бытие может мыслиться с позиции богов. В этом случае «Seyn-бытие есть дрожь богов (отзвук решения богов относительного их Бога)»(15).
Но вместе с тем боги, которые не суть, не абстракция, не метафора и не искусственная конструкция атеистического сознания. Атеизм для Хайдеггера столь же метафизичен, сколько и теизм или деизм. Боги Начала – это направление философской географии того мира, который являет себя в событии (Ereignis), в мгновенном освещении (Lichtung) истины бытия.
Боги и люди принадлежат одной оси, устанавливая в ней противоположные направления. Боги суть те, кто нуждается в Seyn-бытии, которое для них дом и очаг. Люди суть те, в ком нуждается Seyn-бытие, чтобы они сторожили его истину. Эта двойная нужда Seyn-бытия и в Seyn-бытии конституирует в отношении самой себя пару боги—люди.
Безразличные тонкие легкие боги и печальные, вырванные из сущего вспышкой Seyn-бытия и брошенные в бездну небес бедные люди.
Люди Geviert'а
Das Geviert можно помыслить как географию другого Начала, схему фундаменталь-онтологической топики. Поэтому и люди, которых Хайдеггер в Geviert'е предпочитает называть «смертными» -- по их главному свойству, бытию-к-смерти, -- это люди другого Начала, люди как «стражи истины Seyn-бытия» (Waсhters der Wahrheit des Seyns). Это люди нового фундаменталь-онтологического гуманизма.
Очень важно, что они стоят не в центре Geviert'а, а на одном из его концов. Человек – даже такой, обращенный к своей истине как истине Seyn-бытия – это только одно из измерений вспышки Seyn-бытия, наряду с другими. Правда, и соседи человека по Geviert'у фундаментальны – боги, Небо, Земля. Человек страж истины Seyn-бытия сопоставим с ними, но ни в коей мере не является среди них чем-то исключительным. Он отличается от них также, как и они отличаются друг от друга, но вместе с тем, он без немыслим, не представим, без остальных трех он не есть.
Человек Geviert'а, поясняет Хайдеггер ни в коем случае не является «ни «субъектом», ни «объектом» истории, он не есть также «мыслящее животное». Более того, не определяется он и через принадлежность к сущности человеческого, так как именно у него из всего сущего, этой сущности нет. На месте этой сущности, которая должна была бы служить основой для антропологии, основанной на принципах старой метафизики, находится брешь, дыра, окно в бездну. Эта бездна – которая отдаленно дает о себе знать через смерть, ужас, крайние формы риска, ощущение заброшенности (как падения) – есть форма проявления самого Seyn-бытия, которое дает о себе знать как о не совпадающим с сущим – даже с самым сущим из всего сущего, с наисущим. «Человек забрасывается свободным броском в чуждое и не возвращается больше из бездны, располагаясь в чуждом по соседству с Seyn-бытием»(16).
Человек не имеет сущности, а его суть принадлежит не ему, но потребности бытия в обладании стражем. Seyn-бытие конституирует фундаменталь-онтологическое место для стража по соседству с сами собой, и человеком становится тот, кто это место занимает. Заняв это место, человек как страж Seyn-бытия оказывается в структуре Geviert'а. Сущее открывается ему в таком событии-случае с позиции близости к Seyn-бытию как чуждое, хотя как сущее человек был в сущем у себя дома. Поселившись рядом с бытием, он оказывается в сущем в гостях, изгнании, он обнаруживает себя «заброшенным» в сущее. Только такой человек по-настоящему является «смертным», так как его бытие становится бытием-к-смерти.
Войны богов и людей
Божественное и смертное, люди и боги находятся, по Хайдеггеру, в рамках das Geviert в беспрестанном столкновении (Entgegnung), причем в столкновении в обоих смыслах: они сталкиваются как противники и сталкиваются как существа, находящиеся на одной оси. Можно столкнуться, как два врага, а можно — как два соседа в роще или у ручья. Причем в этом столкновении чаще всего бегут боги, и лишь самые тонкие из смертных – поэты и мудрецы – сами бегут от них, ощущая присутствие божества, почитая тем самым его тонкую природу и позволяя богам прийти туда, куда они хотят, чтобы земля и мир наполнились тонким светом священного (Heilige).
Эти и еще множество значений заложены в понятии столкновения, столкновения людей с богами. Война как отец вещей у Гераклита разводит людей с богами, ставит их по разные стороны и делает их нетождественными. По разные стороны чего? По разные стороны Seyn-бытия, которое пребывает между.
Эта нетождественность, это постоянное и принципиальное различие конституирует и тех и других. Это и есть наиболее правильное и острое понимание того, что такое божественность и человечность. Люди становятся людьми, а боги богами через проявление их сути в сопоставлении (Bezug) с Seyn-бытием. Война (Streit, polemoz) – это имя Seyn-бытия, когда оно конституирует Geviert, как пересечение фундаменталь-онтологических линий напряжения. Взрывом события (Ereignis) Seyn-бытие выбрасывает людей и богов, Небо и Землю на разные точки философской географии, создавая тем самым четыре области, каждая из которых хранит вибрирующий импульс, приведший их к наличию и возвращает его к точке истока (Seyn-бытие как война).
Люди, как правило, слишком рационально и утилитарно, «технически» -- даже в своих законченных и возвышенных теологиях и теософиях, относятся к божественности. Боги религии превращаются в механизмы наказания или прощения, спасения или проклятия. Они становятся «человеческими-слишком-человеческими» выдавая тем самым, что их подменили. Такие боги не воюют с людьми, а люди с ними – не воюют по одной причине (их нет, они сконструированы в отрыве от Seyn-бытия), а следовательно, искусные технические приемы ловких людей способны заставить их делать все, что людям заблагорассудится, такие боги – укрощенные боги, dei ex machina.
Настоящие боги стоят от людей по ту сторон Seyn-бытия, и смотрят на людей через свет войны. Это не значит, что они агрессивны, это значит, что они боги.
Древние греки, интуитивно схватывали природу божеств лучше, чем люди конвенциональных институционализированных религий: они видели в богах игру. Но у игры и войны одни и те же истоки: война – это игра, а игра – это всегда война(17). Присутствие уподоблялось тонкому осенению, наитию. Божественное почти незаметно на-ходит, на-ступает на человека, на-падает на него, мягко изымая его из грубой повседневной реальности. Это атака божества проявляет в человеке место для daimon'a (логоса у Гераклита). Контратака людей может прогнать бога с облюбованного им места или взять в плен (присвоение божественной искры как души, сознания, очеловечивание божественного логоса как собственного рассудка). Человек выигрывает войну (обратите внимание на слово «выигрывает» -- «выигрывает», значит, играет) только тогда, когда боги одерживают победу и завоевывают человека и берут его в плен. Тогда и только тогда вступает в свои права истина: «eqoz antropo daimon», то есть daimon становится eqoz antropo.
В Библии(18), в истории с пророком Илией, когда ему явился Господь, упоминалось последовательно, что не в огне Господь, не в трусе Господь, не в буре Господь, не в камнях, а очень тонко — в хладном ветерке, почти беззвучном и неощутимом. В этом библейском описании «тонкого хлада» содержится очень тонкое понимание Божества. Этот «хлад тонок» — стихия божественного. Сущность божественности – в том, что ее почти нет, что она стоит на противоположном полюсе от сущего, в его насущной наглядности, конкретности, ощутимости и грандиозности. В сущем при всей его масштабности бога нет. И Хайдеггер постоянно подчеркивает: «Вы можете перебрать все сущее, но нигде не покажется следа Бога»(19).
«Мы думаем об остальных трех»
В своей фундаментальной, хотя и небольшой статье 1951 года «Строить, проживать, мыслить»(20) Хайдеггер так определяет das Geviert(21):
«Земля, служащая носительница, цветущая подательница плодов, раскинувшаяся в камнях и потоках, плодящая всходы и зверье. Мы говорим “земля”, но думаем и об остальных трех, так как однобоко мыслить четверицу нельзя».
В том же самом поэтическом ритме Хайдеггер пишет о небе:
«Небо — это ход солнца в облаках, изменчивый путь луны, блуждающий блеск созвездий, времена года, их смена, свет и сумерки дня, мрак и прозрачность ночи, погода и непогода, облака и голубая глубина эфира. Мы говорим “небо”, но думаем и об остальных трех, так как однобоко мыслить четверицу нельзя».
Теперь о том, как Хайдеггер определяет божественных:
«Божественные несут нам весть подмигивающего Божества. Из священного владычества божества являет свое настоящее Бог или удаляется в свое сокрытие. Мы говорим “божественное”, но думаем и об остальных трех, так как однобоко мыслить четверицу нельзя». Обратите внимание, «из священного владычества божества являет свое настоящее или удаляется в свое укрытие», «из священного владычества удаляется или являет». С точки зрения Seynsgeschichte, это всегда одно и то же движение, различие и единство, открытие и сокрытие, появление и уход, наличие и отсутствие, в Seynsgeschichtliche эти вещи не противостоят друг другу. В этом проявляется суть Seyn-бытия: открытие в нем не есть антитеза сокрытию, и наоборот, так как в противном случае мы попадаем в ловушку старой метафизики, где бытие приравнивается к сущему (которое точно и всегда есть), а не бытия строго нет. Божественность не бывает однозначной – о ней нельзя сказать, что она есть (явна), но и что ее нет (сокрыта); она и то и то одновременно.
Когда мы говорим das Geviert, мы должны одновременно упоминать всех остальных, не смотря на то, с чего мы начали эту инкантацию. И вот мы дошли до нас самих, смертных, die Sterbliche:
«Смертные суть люди, их называют смертными, поскольку только они могут умереть, умереть — это значит осилить смерть как смерть.» Умирают все (остальные, не люди), но умирая, они (остальные, не люди) не могут умереть потому, что они никогда не смогут осилить смерть как смерть. Смерть дана людям в личное пользование, смерть это то, что делает людей людьми, смерть — это бытие в смерти и бытие в смерть, — факт наличия или уничтожения ничего не добавляет к смерти, это вообще не имеет отношения к смерти, смерть мыслимая онтологически, фундаменталь-онтологически, это то же самое, что и жизнь. «Умирает только человек, умирает постепенно, пока он остается на Земле, под Небом и перед Божественным. Мы говорим “смертный”, но думаем и об остальных трех, так как однобоко мыслить четверицу нельзя».
И далее:
«Смертные живут, спасая землю. Оставляя ее самой себе.
Смертные живут, воспринимая Небо как Небо. Они предоставляют светилам идти своим чередом, они не стараются сделать погожей непогоду и наоборот, они не превращают день в ночь, а ночь в день.
Смертные живут в той мере, в какой они ожидают Божественных как Божественных. Надеясь, они протягивают им на встречу несбывшееся. Они ожидают намека на их скорое прибытие и не путают ни с чем знаки их отсутствия. Они не делают себе богов и не подменяют их идолами. В страданиях и несчастьях провидят они Спасение»
Если однобоко мыслить четверицу (das Geviert) нельзя, если нельзя мыслить только что-то одно в четверице (das Geviert), соответственно любое упоминание о Земле, Небе, Богах или Человеке сразу же вызывает присутствие (именно при-сутствие, «от сути отрывание» и «в суть погружение») всех остальных. Еще Хайдеггер говорит: «Смертные живут в той мере, в какой они, будучи смертными, ведут способность умереть к благой смерти, а не к пустому исчезновению и не к бессмысленной задержке в земном пребывании. В спасении Земли, в восприятии Неба, в ожидании Божественных, и в направлении своей жизни к смерти сбывается проживание как четверичное украшение четверицы (das Geviert).»
Зачеркнуть Sein
В рукописях второй половины 30-х годов у Хайдеггера встречается интересный образ.

 SEIN
SEIN
или

 SEYN
SEYN
Это означает, что бытия не бывает без четверицы (das Geviert), перечеркнутое бытие — это и есть das Geviert. В то же время, когда бытие являет себя, оно являет das Geviert, а значит, по-другому оно не может и писаться, оно никогда не дается нам отдельно, само по себе – то есть без четверицы (das Geviert) и вне четверицы(das Geviert). Как только мы фиксируемся на Seyn-бытии как таковом — das Geviert мгновенно манифестируется. Как только мы сбываемся в событии (Er-eignis)— мгновенно из него брызжет в четыре стороны das Geviert и закрывает это Seyn-бытие собой. Как только бытие проявляет себя, оно зачеркивает само себя. Но как только das Geviert в чистом виде отстраняется от Seyn-бытия, когда оно скрывает собой Seyn-бытие полностью, оно тоже надламывается исчезает и Seyn-бытие снова начинает проступать сквозь него (только иной стороной – через «ничтоженье» , «nichten»). Das Geviert и Seyn-бытие всегда вместе, всего одно и то же, но в их соотношении не константная статика, но постоянная сложная и непредсказуемая событийная динамика откровение и сокрытий.
Эта фундаментальная динамика Seyn-бытия как Ereignis'а оживляет и отношения четырех областей das Geviert'а друг с другом. Волны откровений и сокрытий, приходов и откатов, приливов и отливов, наступлений и отступлений, напряженная стихия войны и игры пронизывают das Geviert, разделяя и соединяя ориентации философской географии.
Наверное, нет ничего более фундаментального, чем этот «Андреевский крест» Seyn-бытия. Нечто подобное должно быть начертано на наших философских хоругвях. Созерцая das Geviert, мы созерцаем перечеркнутое Seyn-бытие (но вместе с ним и Nichts, ведь Seyn здесь перечеркнуто во всех смыслах!) — мы созерцаем единовременно Небо, Землю, Божественных и Смертных.
Обратите внимание на ту деликатность, с которой Хайдеггер изобразил изначальный das Geviert. Когда речь идет о фундаментальном метафизическом пророчестве, имеет значение всё.
Это написание, имя, образ и графика представляют собой синтез глубиннейшего фундаменталь-онтологического знания. Правильное мышление о нем равнозначно тому, что можно назвать «озарением» (Lichtung по-немецки, ελαμψις по –гречески). Das Geviert – плод озарения и вместе с тем приглашение к этому озарению тех, кто на нем сосредоточит свое жизненное мыслительное внимание.
Люди и боги как соседи
В некоторых рукописях(22) Хайдеггер изображает das Geviert вертикально, в виде обычного креста.
 |
В этом случае сверху будет Небо (мир), а снизу Земля, что, конечно, несомненно даже в метафизическом смысле (сверху порядок, снизу хаос; сверху свет, снизу тьма; сверху прозрачное, снизу плотное и конкретное).
Небо (Мир)
![]() Люди, Боги
Люди, Боги
смертные
Земля
Но в таком повороте мы увидим удивительную вещь: люди и боги расположились рядом друг с другом на одной линии – между Небом и Землей. И это фундаментально. С точки зрения Земли и Неба, люди и боги находятся в одной плоскости, в одном круге, в одном хороводе, и строго говоря, где «право», а где «лево» здесь различить невозможно. Боги и люди собрались вокруг света Seyn-бытия и водят хоровод. Боги собрались на собрание, на тинг, вокруг Seyn-бытия, и оказались рядом с людьми, они в Geviert'е -- соседи. Именно такое соседство делает возможными игры богов с людьми. Безразличные к проблемам людей, боги иногда вторгаются в сферу людей (и это вторжение блажено), ходят в ним в гости, оказываются в печи, красном углу, домашнем очаге, в хлебе, в вине, дуновении ветра, в священном дереве. Все это становится возможным, если расположить das Geviert именно таким образом.
Боги оказываются соседями людей; они живут в ближайшей роще, в роднике, в потоке, в весеннем воздухе, в ночном страхе, в полуденном зное, в налитых колосьях пшеницы; они посещают людей или, наоборот, соперничают за обладание ручьем, юной красавицей или мастерски выполненной чашей -- точно так же, как люди ведут себя по отношению друг к другу и по отношению к тем, кем они не являются. В Библии о тесных контактах людей с «сыновьями Божьими» рассказывается в тревожной истории о том, как «сыны Божии» некогда увлеклись красотой дщерей человеческих и сошли на землю. Их потомками стала древняя и исчезнувшая с лица земли раса гигантов.
Это совместное со-бытие людей и богов в общей плоскости — одно из фундаментальных следствий переосмысление фундаменталь-онтологической схемы das Geviert'е.
И вместе с тем, расположение Неба и Земли на вертикальной оси подчеркивает войну, которую они ведут между собой. Небо атакует Землю, Земля закрывается от этих атак, защищается, собирается в себя перед саморассеиванием открытого Неба. Это ураногеомахия – война Земли и Неба (мира). В этой войне состоит Seyn-бытие как постоянная динамика жизни. Порядок установлен в Geviert'е не раз и навсегда. Небо, как выражение упорядочивающей области фундаменталь-онтологии не может до конца навязать Земле свой порядок. Земля слишком велика и изначальна для этого, слишком широка, слишком тяжела. Она ни на миг не оставляет работу своей жизни, выражающееся в шевелении великой тяжести. Как бы решительно не действовало бы Небо, Земля не дает миру сбыться как просто миру, прячась от лучей Неба, Земля все делает земным, окутывает плотным наличием воление Неба и тем самым спасает вещи от неподвижности и совершенства: Земля дает вещам, учрежденным Небом, возможность разлагаться и возвращаться к Земле. Это месть Земли, ее контрнаступление. Чтобы ни породило Небо в своей творческой мощи, Земля рано или поздно растворит это в священной первооснове. Небо разит за это Землю; Земля страдает, выносит это и снова стягивается в нетронутой свежести после расщепляющих ударов небесного грома.
Небо и Земля не отдельные друг от друга вещи – это волны Seyn-бытия, его способ существования. Это области, направления бытия.
Ураногеомахия бывает драматичной и бурной. Иногда же страсть успокаивается. Битва Неба и Земли приводит сущее к тому, чтобы оно стало. Перемирие гасит дрожь сущего. Небо склонно воевать всегда, Земля всегда готова заключить мир. В мире – реванш Земли, так как мир есть период распада. Мир не порождает ничего, все, что порождается, порождается войной.
Ось антропотеомахии
Можно попробовать повернуть крест das Geviert'а и по-другому. Тогда проявится другая вертикальная ось, выстроится иная структура фундаменталь-онтологического напряжения. Такой схемы у Хайдеггера я не нашел, но теоретически она возможна, если исходить из первичности его расположения именно как «Андреевского креста», где один из верхних полюсов может быть взять за абсолютную вертикаль. В случае с главенством Неба такая возможность подтверждена в рукописях самого Хайдеггера. Но по симметрии можно поступить и следующим образом, поставив Божественное на вершину вертикально расположенного креста.
Бог
![]() Небо Земля
Небо Земля
Человек
Сама симметрия такого изображения das Geviert'а подталкивает нас к тому, чтобы расположить вверху Бога в единственном числе. Быть может отсутствие у Хайдеггера именно такой схемы как раз и объясняется его упорным нежеланием хоть как-то отвечать на вопрос о «множественности богов или наличия единственного Бога». Но при этом явно держит в уме перспективу единого Бога в фундаменталь-онтологической системе координат, о чем свидетельствуют его употребления слова «Бог» в единственном числе и в частности, в сочетании «последний Бог», именно «Бог», а не «боги». Но Хайдеггер тщательно избегает форсировать любые речи о Боге из оправданного опасения впасть в старую метафизику и онтологическую теологию, что равносильно отказу от философствования в пространстве другого Начала. Вопрос о едином Боге должен решаться на совете богов, в их дрожи, в священной недоступности их тайного собрания вокруг очага Seyn-бытия. Мы можем – то приблизительно – судить лишь о горизонте божественного как того, что открывается внутри священного, сакрального (Heilige). Но сакральное (Heilige) и есть другое (поэтическое) имя для Seyn-бытия. «Сакральное и Seyn-бытие оба называют одно и то же и не одно и то же.(…) Сакральное и Seyn-бытие – испытанные опытом и обдуманные – суть имена другого Начала.»(23) Каждое из этих имен принадлежит к разным сферам – одно к поэзии (священное, Heilige), другое к философии (Seyn-бытие). Божественное в отношении человеческого пребывает по ту сторону Seyn-бытия, по ту сторону зоны сакрального (Heilige). Поэтому человек в своей сути, как страж Seyn-бытия, всегда видит божественное только как самый дальний горизонт и не может выносить суждений о количестве богов, об их множественности или наличии только одного Бога. Это не дело людей, это дело богов – подсчитывать самих себя, если в отношении богов счет имеет хоть какое-то ни было значение.
Поэтому корректнее было передать эту схему все же так:
Божественное (боги? Бог?)
![]() Небо Земля
Небо Земля
Человек
В таком повороте das Geviert'а максимальная оппозиция и противостояние развертывается между богами и людьми, которые в предыдущей версии das Geviert'а виделись, скорее, соседями. Здесь их отношения приобретают более враждебный характер. Боги воюют с людьми, атакуют их, насылают на них язвы и страдания, издеваются над ними, презирают их. Боги могут убить людей, насмеяться над ними превратить их жизнь в ад. Иногда люди начинают штурмовать легкие воздушные цитадели богов, и подчас им удается убить их («Бог умер, вы убили его, вы и я», пишет Ницше). По сравнению с людьми боги бессмертны, но по сравнению с Seyn-бытием – смертны, поскольку Seyn-бытие есть событие и несет в себе ничто как возможность «ничтожить», «уничтожать». Случается, что боги умирают (как некогда «умер великий Пан»(24)). Можно вспомнить библейский сюжет о том, как Иаков бился с ангелом (Богом) до зари.
Как мы уже говорили, антропотеомахия, борьба людей и богов, в отличие от обычных войн, является двусмысленной. Победа богов над людьми (поражение людей) означает не только победу богов, но победу самих людей. Боги, взявшие людей в заложники, в плен, в рабы освобождают людей от зависимости от сущего, делают их впервые по-настоящему свободными. С этим связано и такое понятие как «вос-хищение», которое дословно означает «взятие на небо», «похищение», «хищение со стороны чего-то высшего». Так, святой апостол Павел был «вос-хищен» на третье небо. Поэтический эпитет «восхищение» некогда означал грубый факт захвата человека музами или духами и увода его в небесный плен.
И наоборот, победа людей над богами, штурм Олимпа, приводит к поражению людей, так как уничтожая, сжигая дальний горизонт божественного, люди теряют связь с Seyn-бытием, роняют его, утрачивают нить Geviert'а, низвергаются в бездну ничто. Это не месть богов, это самонаказание людей, их совесть, их «этос» (как место богов в людях) толкает их в пустыню нигилизма и техники – как плата за ту победу, которую они ни в коем случае не должны были бы одерживать.
Еще один вывод из созерцания Geviert’а в таком расположении: когда боги вверху, а люди внизу, то Небо и Земля находятся в равном положении, они перемещаются на одну плоскость. Значит, на сей раз они утратили свое вертикальное противостояние, перестали биться, примирились; значит, они теперь вместе; значит, пришел их черед водить хоровод. Это модно назвать браком Неба и Земли, их помолвкой.
Когда человек, смертный, начинает осознавать себя на одной вертикальной оси с божествами, когда вспыхивает пламя антропотеомахии, тогда Небо и Земля уравниваются, смыкаются между собой в хаотическом сцеплении и происходит священный брак.
Когда человек чувствует вес божества не рядом с собой (тогда это не вес, но напротив, легкость), а над собой, против себя, когда он находится на линии «полемоса» с богами, Земля и Небо уравниваются между собой, и мир впадает в хаос (священный или нет).
Seyn-бытие как «между»
Здесь уместно задать вопрос, чтó стоит в центре das Geviert?
В разных текстах и рукописях Хайдеггер ставит на место пересечения линий das Geviert'а, в центре разные вещи. Мы видели в изображении перечеркнутого Seyn-бытия, что это может быть Seyn.
 |
SEYN
Seyn-бытие находится между богами и людьми, между Небом и Землей. Между (Zwieschen) , промежду (Inzwieschen) – это то, где Seyn-бытие находится. Если бы у него была точная локализация, то мы имели бы дело с Sein-бытием старой метафизики. Но в фундаменталь-онтологии у Seyn-бытия нет места, его место всегда между местами, более того «между» -- это имя собственное Seyn-бытия. Но так как Seyn-бытие и есть самое основное, то все, что имеет к нему отношение – и в первую очередь, сам Geviert и его области – тоже становятся «между», определяет собой положение через отношение к другому. Смысл бездны в том, что у нее нет дна. Не просто оно слишком глубоко или страшно далеко; его нет вообще. Так и «между» не есть между одним и другим, напротив, одно и другое есть условные направления, откладываемые от этого между, причем собственное бытие этих концов черпается из отношения к этом «между».
Пересечение осей Geviert'а это и есть самое главное «между», а значит, там прячется Seyn-бытие, а открывается оно через то, что находится во все стороны от него.
Хайдеггер предупреждает, что полюса Geviert'а и их борьбу между собой нельзя понимать как самостоятельные сущности. «Земля не есть отрез от сущего-в-целом. Мир не есть отрез от сущего-в-целом. Сущее не делится на эти два отрезка. Земля есть существование (бытие по сути, Wesung) сущего-в-целом. Мир есть существование сущего-в-целом. Земля и мир принадлежат к Sein-бытию сущего-в-целом, поэтому мы никогда не сможем понять войну между ними, если будем представлять ее как соревнование или битвы между разными вещами».(25) Земля борется за то, чтобы стать миром (Небом). Мир борется за то, чтобы навести на тихой и мятежной Земле порядок. Но и Земля и Небо (мир) следует мыслить из того, что между ними – то есть из Seyn-бытия.
Geviert и Ereignis
В других случаях Хайдеггер располагает в центре Geviert'а Ereignis. Это не другая картина, но та же самая, что и прежде, только Seyn-бытие описывается в ней как событие, как нечто единственное, уникальное, конечное. Мысля Seyn-бытие как Ereignis мы оказываемся в самом моменте другого Начала, начинаем этой мыслью Начало.
Geviert не есть и не становится, он случается, он сбывается как событие в динамическом взрыве Seyn-бытия. Этот взрыв есть нечто одноразовое и seynsgeschichtliche. Пока событие не сбудется, пока другое Начало не начнется, Geviert не действителен; и мы имеем дело только с догадками о нем. Geviert есть тогда и в той степени в какой есть Ereignis.
Поэтому у Хайдеггера мы встречаемся с такой схемой(26).
Мир
 |
![]()
![]() Человек Ereignis Боги
Человек Ereignis Боги
Земля
Постановка в центр Geviert'а Ereignis'а показывает его seynsgeschichtliche характер. Geviert не просто сущее (Seiende) или сущее-в-целом. Это сущее и сущее-в-целом тогда, когда событие (Ereignis) происходит, когда Seyn-бытие врывается, когда осуществляется приход последнего Бога. Это значит, что правильно мыслить Geviert в перспективе эсхатологии бытия.
Geviert – это усилие, это фундаменталь-онтологический прорыв, в котором Seyn-бытие опознается как «между» и никак иначе. Пока этого прорыва нет, нет и Geviert'а. Это чрезвычайно важно помнить, чтобы верно понимать строй хайдеггеровской мысли.
Вещь (Ding)
Третьим претендентом на постановку в центр перекрещенных фундаменталь-онтологических ориентаций Geviert'а является вещь, Ding(27). Хайдеггер предупреждает, что следует остерегаться мыслить вещь в центре Geviert'а как нечто пятое. Перекрестие двух осей das Geviert'а не составляет нечто новое, эта точка не обладает самостоятельностью. Вне Geviert'а — как действующей динамической фундаменталь-онтологической модели взаимодействия в живом ритме по обеим этим осям — ее нет.
Любая вещь, — например, дерево, на которое мы смотрим, — есть, присутствует. И на-личествуя, она уже в силу этого факта наличия представляет собой обязательное перекрестие das Geviert. Вот почему воспринимать любую вещь правильно, фундаменталь-онтологически надо как перекрестие, свидетельствующее о проходящих сквозь нее, через нее осях. Только в таком случае – будучи помещенной в свет Geviert'а -- вещь становится вещью.
Здесь следует вспомнить, что Geviert есть перекрестье двух осе, вдоль которых развертывается антропотеомахия и ураногеомахия, война людей и богов, война Неба и Земли. Самое Seyn-бытие есть πολεμος Гераклита, отец вещей. Вещь поэтому -- это перекрестие двух войн, вернее, единой войны, ведущейся в перпендикулярных друг другу направлениях. В этом состоит динамическая жизнь вещи, которая никогда не бывает сама собой – ее разбирают области Seyn-бытия, переполняя жизнью или насыщая дыханием смерти. Поэтому вещь в ее фундаменталь-онтологическом измерении не просто есть как сущее, но сбывается, случается, выражая собой Seyn-бытие, включая его «ничтожащую» мощь. Вещь поэтому опасна и рискованна, она брошена в бездну великой войны. Неживых вещей в Geviert'е нет. Все вещи живут здесь как в поле непрерывной непредсказуемой битвы.
Здесь важна индоевропейская этимология слова «вещь». Латинское «res», немецкое «Ding» и русское «вещь» изначально несут в своих корнях отсылку к политико-юридическим процедурам. Хайдеггер задается вопросом: что такое das Ding? И он сам себе отвечает: das Ding — это вынесенное на thing, на собрание племени, на «агору» для того, чтобы принять решение относительно правомочности или неправомочности, полезности или неполезности вынесенного. Das Ding (вещь) — то, что выставлено на суд. Но на какой суд? На суд, представляющий собой круг людей, ходящих по Земле, под Небом и в присутствии знаков Божеств, поскольку все священные собрания у древних народов проходили именно таким образом. Люди собирались на тинге перед лицом Божественного, это собрание людей проходило на Земле под открытым Небом. Вынесенное и поставленное в центр обсуждения как раз и является Ding. Ding — это не символ, не знак, не инструмент. Ding — это пересечение всех четырех измерений Geviert'а в одном моменте, когда все эти измерения собираются вместе для вынесения фундаментального решения.
Здесь важно обратиться к русской этимологии. Какова же смысловая основа русского слова «вещь»? Вещь есть то, что выносится на вече, что решается на нем. Точно так же, как немецкое Ding – это то, что вынесено на thing. Интересно, что и латинское res первоначально означало «дело», именно то, что было предложено публике, собранию. Отсюда res publica (Республика). Таким образом, у латинян мы тоже обнаруживаем идею собрания, идею принятия фундаментального решения при соучастии Земли, Неба и Богов. Это не просто метафора, которую нам предлагает Хайдеггер, это прозрение в суть того, как на самом деле всё обстоит в мышлении, в языке и истории.
Вещь и дары Geviert'а
Каждое направление Geviert'а привносит в вещь нечто свое.
Небо приносит в вещь то, что делает ее именно этой вещью. Небо высвечивает ее светом, при котором она становится видимой как именно эта вещь, такая вещь. Небо указывает вещи ее место в мире, так как Небо и мир в хайдеггеровской карте фундаменталь-онтологии синонимы. Сосна, например, является сосной потому, что Небо делает ее сосной, Небо высветляет ее как сосну и дает ей упорядоченное достоинство.
Земля делает вещь наличествующей, она делает ее на-стоящей — в то время, как Небо делает вещь «именно этой», конкретной вещью и вещью заключенной в общий строй всех вещей. Точно так же Земля объединяет все вещи потому, что они все состоят из основы, но при этом она их разделяет, раскидывая по своей бескрайней протяженности, отделяя. Земля и Небо соединяют и разделяют вещи, но делают это по-разному.
Божественные привносят в вещь священное. Когда боги приближаются к вещи, эта вещь становится наделенной их тончайшими невидимыми и неощутимыми вибрациями. Вещь становится священной. Священная вещь – это вещь для богов. Боги суть те, для кого предназначается все. Все есть жертва, протянутая им. Принимая вещи, боги делают их легкими для себя и весомыми для других. Священные вещи – самые легкие и самые тяжелые одновременно.
Человек привносит в вещь воспевание, привносит ее имя. Но имя не в смысле «имения», поскольку человек в Geviert'е еще не «емлет» вещь. В Geviert'е человек поэтически поет вещь и часто пьет (из священной жертвенной чаши) для того, чтобы петь на этом пути. В этом главное: человек относится к вещи через язык. Человек воспевает вещь и помещает ее в язык, а язык помещает в нее. Человек выговаривает вещь. Человек творит вещь в гимне, в поэзии(28). Творит — значит, ставит туда, где она находится: между Небом и Землей, перед Богами и воспетая им самим. Поэтому, с точки зрения Хайдеггера, сущность человеческого по отношению к вещам — это воспевание вещей, это -- гимн, это -- поэзия.
Язык не свойство человека, человек есть форма присутствия языка. Язык – это суть истины Seyn-бытия. Поэтому речью, высказыванием исчерпывается высший горизонт человека, как «стража Seyn-бытия». И в вещь он привносит самое важное, что выше его самого – высказывание, называние как вызывание к наличию.
Глава 12. Geviert как карта Начала и отступления от него
Пустыня растет
Das Geviert – это мир как он есть со стороны Seyn-бытия. Это – фундаменталь-онтологически понятый мир. Поэтому это мир, относящийся к Началу, к той точке Начала, которая является в определенном смысле общей и для первого Начала и для другого Начала. Первое Начало до того момента, когда из философских откровений и прозрений Анаксимандра, Гераклита и Парменида Платон и Аристотель не сделали однозначных выводов в духе метафизики и своей онтологии (где сущность сущего отождествилась с Sein-бытием) оставалось вполне начальным, и отклонение от фундаменталь-онтологии можно фиксировать только a posteriori. Отсюда и проистекает такой интерес Хайдеггера к досократикам – он, мыслитель другого Начала всматривается в первое Начало, стремясь увидеть в нем то, что делает Начало Началом, то есть начальное. Поэтому и его любимый Гельдерлин, поэт другого Начала, так близок по мировосприятию к грекам и греческим поэтам первого Начала.
В этом смысле Geviert есть и фундаменталь-онтологическая перспектива откровения мира в событии (Ereignis), то есть горизонт эсхатологии бытия и явление мимохождения последнего Бога, и вместе с тем мгновенный кадр того космоса, который открылся первым греческим мыслителям в первоначальном движении к философии и поэзии.
Но вне этого начального момента Geviert также может быть осмыслен, но не как начальное явление и событие, а как платформа фундаменталь-онтологической критики неначальной метафизики и основанной на этой метафизики космологии. Geviert есть только со стороны Seyn-бытия, когда Seyn-бытие сбывается в уникальном и одноразовом моменте. Но когда Geviert не есть, в других периодах, характеризующихся «оставленностью со стороны бытия» (Seinsverlassenheit), он все равно в некотором смысле есть, но только через свое обратное обращение – подобно тому, как в «оставленности бытием» и «забвении о нем», приводящих к нигилизму, Хайдеггер прочитывает весть и послание (Geschichte) самого Seyn-бытия.
С помощью Geviert'а можно рассматривать и не-Geviert. Или иначе, можно рассматривать Geviert как фундаменталь-онтологическую карту, наложением на которую иных – неначальных -- представлений о космологии, антропологии, физике и теологии мы сможем измерить объем и качественные характеристики того, что Ницше называл «опустыниванием» (Verwüstung). Опустыниванием в таком случае будет именно опустынивание Geviert'а, искажение пропорций между различными «областями мира», изменение их статусов и позиций, отрыв их от Seyn-бытия, нарушения тончайшей начальной связи между ними.
Всю историю философии, культуры и цивилизации можно описать как процесс прогрессирующего опустынивания Geviert'а. Это и будет seynsgeschichtliche процедурой корректного анализа истории.
Идея застилает Небо
В первом разделе «Seyn und Sein» мы в самых общих чертах описали то, как мыслил Хайдеггер Seynsgeschichte и ее этапы. Теперь мы спроецируем эти этапы на карту Geviert'а, чтобы объемнее представить себе их содержание.
Хайдеггер определял место платонизма как Конец в первом Начале. Здесь греческая мысль совершает радикальный переход от самой возможности мыслить бытие (Sein) как нечто отличное от сущего (Seiende) и фиксирует онтологическую проблематику с сущносью сущего, как «вторым сущим», поставленным надо всем остальным. Онтология надстраивается над онтикой таким образом, что не открывает бытие сущего, но окончательно закрывает доступ к нему. Главным инструментом этого становится учение об идеях. Если спроецировать эту проблематику на Geviert, то самой серьезной трансформации подлежит здесь Небо (мир).
Небо как мировая область фундаменталь-онтологической карты в начальном Geviert'е мыслится открытым. В этой открытости Неба, в бездонности его глубины проявляется существование Seyn-бытия. Платон ставит на место Неба идею. Он не просто помещает идею на Небо, но в центр Неба и косвенно вместо Неба. Являясь наисущим среди всего сущего, идея затмевает собой Небо, замещает его. Само Небо лежит в основании видения, так как Небо – область света и освещения. Но естественный и открытый свет Неба, возводящий в Seyn-бытие, у Платона превращается в искусственный и «закрытый» свет идеи.
Идея как выражение высшего сущего закрывает фундаменталь-онтологическое измерение Неба и превращает Небо как мировую область в метафизическую сферу. Отныне это Небо метафизики – как в философском, так и в религиозном смыслах. Согласно Хайдеггеру, платоновская метафизика проникает в эллинизированный иудаизм через Филона Александрийского, а затем через греческий перевод Септуагинты и в христианство. Небо метафизики есть план онтологической топики, где на месте Seyn-бытия становится сущее. И Небо получает свою идентичность как логического положения, тождественного только самому себе и не тождественного ничему другому (в первую очередь Земле). Введение логики и ее законов окончательно закрепощает Небо в онтологической статике, и все версии последующей метафизики вплоть до Нового времени и откровенного нигилизма ничего принципиально не меняют в этом вопросе.
Небо больше не существование Seyn-бытия, которое борется с другим существованием Seyn-бытия, Землей, в созидающей и драматической войне-игре зеркал. Небо – это сущность, эссенция, Seiendheit, высшее сущее, «наисущее» (ὄíôùò ὄí). Война с Землей продолжается, но это больше не игра. Это война на радикальное уничтожение. Отсюда берет свое начало tecnh, Machenschaft, «преднамеренное самонавязывание».
Земля обратилась в материю
Симметрично этому происходит трансформация Земли. Земля в начальном Geviert'е не просто то, что находится внизу, у основания мира. Она ниже и шире этого. Земля тоже фундаменталь-онтологически открыта, хотя и закрыта перед лицом открытого Неба. Эта тайная открытость Земли есть бездна (Abgrund). Земля как Grund (основание, грунт, почва) есть в своей сути (Wesen) Abgrund, бездна, так как она не что иное как существование (Wesung) Seyn-бытия. Земля всегда ниже, чем можно себе вообразить, в этом ее животворная мощь и темный ужас. Когда Небо замещается идеей (у Аристотеля энергией или эйдосом), Земля становится «материей», субстанцией, ’υλη, «древесиной», основой для воплощения идеи в ее конкретике. Это -- еще священная Земля, священная стихия, но она уже закрыта снизу, она дно, а не бездна, предел, а не темная мощь рождения и погибели. Но в такой Земле уже можно предугадать схоластическую концепцию materia signata quantitate, чисто количественной материи и объект метафизики Нового времени, вплоть до материи материалистов.
К конце концов, из живородящей тьмы Земля превращается в энтропию, мстящей повальным распространением тленности всему тому, что упорно и агрессивно насаждает техническая воля к власти, бывшая когда-то Небом.
Человек человеческий
Но главное опустынивание, согласно Хайдеггеру, проявляется в человеке, который начинает мыслить по-другому, осознавать себя по-другому, утрачивает свой фундаменталь-онтологический горизонт. Человек тоже становится закрытым присваивает себе то, что было горизонтом Seyn-бытия, достоянием богов, речью сакрального (Heilige). Как «стражу Seyn-бытия» человеку были открыты горизонты речи и мышления – как формы существования тонких и далеких беззаботных богов, как вспышки Seyn-бытия, высвечивающие сквозь человека человеческую область Geviert'а. В конце первого Начала, человек посчитал это своей собственностью, конституирующим его как вид, хотя как вида – со своей особой закрытой и самотождественной сущностью – человека-то как раз и не существует. Человек – это место языка, возможные зоны вторжения легких богов, брешь в сущем, сквозь которую Seyn-бытие выражает себя как мысль. Так в Geviert'е. Человек платонизма и всей последующей западно-европейской метафизики, это закрытый человек; он безосновательно утверждает свое основание и свое самотождество, дерзко присваивая себе то, что ему было вручено для воспевания, почитания и охраны. Логос был богом, daimon'ом, истоком этики и горизонтом подлинного мышления, началом философии. В антропологии греков он становится zoon logon econ, «животным, обладающим логосом»; обратите внимание на «econ» -- «обладающим». В Geviert'е логос обладает человеком, а не человек логосом. В послесократической философии эта антропология, изначально разделяемая лишь софистами (например, Протагор с его «человек есть мера вещей») становится общепринятой. При переводе на латынь получаем animalis rationalis, что вообще ничему не соответствует, так как ratio это даже не логос, а рассудок, присутствующий у обычных людей, не философствующих, не озаренных логосом. Такая же участь постигает и daimon'а, который был «этосом» человека у Гераклита. Человек отнял «этос» у daimon'а, присвоил его самому себе, населил истуканами и, в конце концов, поносившись с этим два тысячелетия, отбросил как нечто пустое вместе с ницшеанским анализом «генеалогии морали» и предложением встать «по ту сторону добра и зла». Тот же Ницше зафиксировал и «смерть Бога».
Также случилось и с языком. Вместо того, чтобы понять его значение, расшифровать заложенное в нем послание Seyn-бытия, человек посчитал его своим свойством, и через искажение навязанной логикой и грамматикой, превратил из места высвечивания Seyn-бытия в инструмент воли власти. Отныне он приобрел уверенность в том, что мышление, язык и божественность – это предметы полностью находящиеся в его компетенции, и зависящие от его собственной самотождественной природы. Окончательно это закрепилось в Декарте, концепции субъекта и последующей за ним метафизике Нового времени.
Человек, утверждая себя как особое сущее, утратил доступ к своей сути, которая выстраивается через его открытость к Seyn-бытию, как нечто радикально иное, альтернативное обладанию самобытной сущностью. Опустынивание началось тогда, когда человек вместо воспевания вещи стал представлять и создавать вещь.
В Начале человек воспевает вещь, именует ее. По-гречески это ποεσις, что означает «созидание», «творение». Когда мы входим в фазу платонического мышления, это сакрализирующее созидание через воспевание вещи превращается в непосредственное производство. Pοεσις отныне становится не поэзией, а лихорадочным творением нового сущего, искусственного сущего, в котором выражается отныне лишь неукротимая воля человека к власти. Человек начинает заниматься чем-то совершенно ему несвойственным, он более не хранит Syn-бытие, не поддерживает гармонию в Geviert'е, но грубо вмешивается в сущее, корежит его, вышибает из него то, что ему требуется, стремится подчинить его себе. Здесь, с точки зрения Хайдеггера, начинается, фундаментальный декаданс.
И здесь мы подходим к очень важной черте. По Хайдеггеру, именно человеку среди всех четырех направлений Geviert'а вверено решение (Entscheidung). Человек есть существо решающее, способное сделать выбор. И от этого решения зависит Seynsgeschichte. Свобода человека, его открытость, его беспочвенность, расколотость и бездонность, его смертность состоят в том, что он может обратиться с своим призванием о охране Seyn-бытия – по своей воле. Он может охранять его, а может уклониться и покинуть стражу. Это решение фундаментально и не корректируется никем и ничем в тот момент, когда оно принимается. Здесь замолкают и Небо, и Земля, и боги. И даже само Seyn-бытие оставляет человека в свободном падении, так как вверенная ему свобода и есть высвечивание Seyn-бытия в том месте сущего, которое называется человек. Человек может выбрать быть или не быть, существовать как хранитель истины Seyn-бытия, или быть как-то иначе и, соответственно, кем-то еще. Человек повредил Geviert. Он замостил Небо идеями, а землю сплющил до материи. Он разогнал, обратил в рабство и поубивал богов. Он ополчился на бытие и решил забыть о своей смертности. И он был свободен сделать это, так как в этой свободе, в решении (Entscheidung) и состояла его область в Geviert'е.
Но будучи полностью и единолично ответственным за такое решение, которое оформилось в ходе первого Начала и вскоре обрело ясные черты платоновской метафизики, будучи совершенно свободным в этом решении, человек не был свободен за организацию его последствий. Он творил онтологию в пустоте своей бурной великой воли, но он не властен был предопределить Конец, к которому вели последствия принятого решения. Это и есть Seynsgeschichte, посыл судьбы, как мощь Seyn-бытия, еще более мощная, нежели мощь того, кого Seyn-бытие наделило мощью своей свободы. Это – эсхатология бытия, которая, полностью приняв решение человека в первом Начале, продемонстрировало подлинное содержание этого решения как tecnh и поставило человека перед зеркалом его нигилистического Конца. Решавший все сам и в полной пустоте великого Начала человек не был свободен только от одного -- от Конца, который в этом Начале содержался и который стал неминуем и предопределен ровно в тот момент, когда окончательно (хотя еще и еще в рамках Начала) прояснилось содержание того решение, которое было принято в Начале.
Человек испортил Geviert. Но он заплатил за это собой.
Вытесненные боги
Последствия падения начального Geviert'а, его порчи коснулись неизбежно и четвертой области – области божественного. Хайдеггер образно говорит об этом как о «бегстве богов» (Flucht der Göttern ). Можно описать это как решающую и необратимую победу людей в ходе антропотеомахии. Тема убийства или смерти богов имеет древние корни. Многие архаические культы основаны на символическом убивании богов – такова была участь Диониса, Адониса, Пуруши индусов и т.д. Идея богоубийства стоит в центре и христианской религии. Люди могут убить бога. Бог может умереть.
Но еще проще и легче, чем убить бога, это прогнать его. Для этого даже не надо вести длительные и требующие больших затрат военные действия, прибегать к хитростям, рассчитывать ресурсы и формировать отряды, продумывать стратегии обороны и наступления. Достаточно закрыть хотя бы одно из направлений Geviert'а, вырезать из общей фундаменталь-онтологической карты мира один фрагмент – пусть ничего не значащий, как боги обратятся в бегство. Они не выносят грубости, глупости, косноязычия, низости, неучтивости и, самое главное, они не терпят закрытых пространств, захлопнутых дверей, законченных форм, идей, мыслей, вещей. Боги суть открытость и единение. Таков и гераклитовский бог-логос: если его шепот не слышат, и открываемому им единству сущего никто не внемлет, он тут же прячется, потому что отрезающие от единства части отпадают от него на бесконечно большое расстояние. В этом секрет: больше всего боги боятся глупости, или, что тоже самое «житейской мудрости», «здравого рассудка», «практического разума», аристотелевского jronesiz. Здравый смысл, трезвость, расчетливость, опытность, рациональность самое верное оружие против богов. Боги есть там, где мудрецы и безумцы. Люди разумные и благонадежные для богов горше яда.
Люди победили в антропотеомахии как только стали просто людьми, человеческими слишком человеческими. Так началось расколдовывание мира, его десакрализация.
Судьба перекрестья
Теперь проследим, что происходит точкой перекрестья о мере удаления Geviert'а от его начального (anfangliche) состояния. О трансформациях Seyn-бытия в платонической и постплатонической философии уже шла речь. Seyn-бытие начинает мыслиться как Sein-бытие и как «наисущее» (ὄíôùò ὄí). В конце концов в центре оказывается именно сущее (Seiende) каким бы «наивысшим» оно ни было бы. При этом происходит автономизация центра Geviert'а. Он мыслится не как пересечение двух динамических осей, но как самостоятельная и фиксированная точка, от этих осей независимая. Такая автономизация создает новую карту философии, которая перестает быть фундаменталь-онтологической и становится онтологической. Закрепив эту точку «наисущего», «эссенции», «сущности», мы можем отойти от Geviert' и его мировых областей и построить, отталкиваясь от этой точки иные геометрические карты мышления.
В еще большей степени эти трансформации Geviert'а затрагивают Ereignis, который мы также располагали на пересечении осей. Эта точка больше не мыслится как Ereignis, событие. Единственность, уникальность, редкость Ereignis'а как взрыва Seyn-бытия в его наиболее прямом и начальном выражении, исчезает. Seyn-бытие перестает быть событием, перестает случаться. Оно отныне мыслится как нечто постоянное, «вечное», «всегда присутствующее», «гарантированное», «наличествующее», как обеспеченное, всеобщее и пустое онтологическое apriori. Бытие вне Начала никогда не Ereignis, в этом состоит наиболее глубокая характеристика неначальной (старой) онтологии. На месте события стало его отрицание, нечто противоположное событию – то, что не сбывается, не случается, а есть всегда. Вместо свежести, внезапности, молниеносности и новизны мы имеем дело с привычности, постоянством, банальностью и априорностью.
Изменяется и то третье, что мы ранее располагали в центре Geviert'а – вещь, Ding. Вещь из простого и сверхнасыщенного выражения Seyn-бытия как войны (polemoz), из вынесенного на вече Неба, Земли, богов и людей вопроса, требующего жизненного решения, превратилась нечто искусственное, в знак, в символ, в составное сущее, разложимое на идею, форму, эссенцию и материи, субстанцию, наделенную к тому же второстепенными свойствами, качествами – акциденциями.
Можно суммировать все эти трансформации Geviert'а в Конце великого Начала на следующей схеме:
Небо становится Живые боги удаляются,
местом порхания идей, убегают
застилающих собой Seyn-бытия
Небо закрывается идеями
 |
Seyn-бытие заменяется
сущностью (Sein als Seiendheit)
Вещь становится символом,
раскладывается на
форму и
материю
Ereignis'а не происходит,
Seyn-бытие больше не сбывается,
не случается
Человек навязывает себя Земля мыслится как материя (ule)
и превращает сущее утрачивает измерение
в пред-ставление бездны
Geviert и схоластика
В период Сократа, Платона и Аристотеля Geviert перестает быть собственно Geviert'ом, его структура рассыпается, четверица перестает быть четверичной, и мы накладываем карту Geviert'а на новую структуру постплатонической онтологии лишь для того, чтобы проследить соответствия между фундаменталь-онтологическими пропорциями и отношениями, свойственными Началу, и их позднейшими искажениями.
Еще больше Geviert отклоняется от своей изначальной структуры период доминации христианской теологии и схоластической философии. По Хайдеггеру, этот период не приносит ничего принципиально нового в платоническую онтологию, где выше всего стоит идея как «наисущее», но дополняет эту онтологию теологической концепцией единого Бога, как высшего из сущих, верховного сущего, выступающего вместе с тем Творцом и Создателем остального (низшего) сущего. Хайдеггер считает, что мы имеем дело со следующим уровнем абсолютизации принципа tecnh, когда все сущее начинается мыслиться как некоторый аналог технического производства, и высшим сущим признается демиург – мастер, создающий вещи и предметы.
Между миром и его Творцом утверждается непроходимая пропасть, как между горшечником и слепленным им горшком. Те фундаменталь-онтологическое подходы, которые оживляли Geviert, тончайшие различия, драматические войны и одновременно внутреннее единство мировых областей Geviert'а, все это не совместимо, по Хайдеггеру, с креационистской метафизикой богословия и схоластической философии. И не случайно, что христианский период западной истории проходит под знаком Трех, а не Четырех. Онтологическая структура, таким образом, видоизменяется еще больше, сравнение новой богословской онтологии и космологии с Geviert'ом становится все более сложным. Тем не менее, кое-какие параллели установить можно.
Самое главное в теологии, это качественное изменение статуса божественного. Вместо богов и открытого вопроса о возможности единого Бога, без всяких сомнений в качестве абсолютной аксиому постулируется строгое единобожие. Бог – это абсолютный субъект, и абсолютный объект. Он есть высшее существо, одновременно сущий и творец бытия (как бытия мира). Между миром и Богом – отношения строго трансцендентности. Бог не имеет общей меры с миром, он запределен. Мир создан им из ничто и не имеет никаких перспектив качественно изменить свое «ничтожное» качество. Отношение людей и Бога приобретают жестко юридический и моральный характер. Бог заключает с людьми Завет (своего рода контракт), и строго следить за его соблюдением, штрафуя нарушителей и поощряя тех, кто строго держится его пунктов.
Бог монотеизма не имеет ничего общего с богами Geviert’а. Эти боги были частью мира; их число не возможно было подсчитать; они были подвижны, летучи и тонки; в их отношении правильнее было сказать, что они не суть, но в тоже время и не не суть. Бог теологии не часть мира, но его Творец; Он строго единственен; Он неподвижен и вечен, всегда равен себе; Он есть, и более того, Он есть Тот, кто есть.
С философской точки зрения, легко узнать в нем высшую идею Платона, снабженную дополнительными свойствами и атрибутами. С точки зрения философии, религия добавляет к ее структуре совсем немного – отдельные детали Вся мыслительная топика остается прежней – метафизической и онтологической.
Такое представление о Боге ломает Geviert, превращает его ассиметричную схему, во главе которой на абсолютном и неизмеримом расстоянии от всего остального, стоит Бог.
На другой стороне от трансцендентного Бога находится Земля. Но это уже, конечно, не так Земля, которую мы видели в Начале и даже не та ulh, субстанция, материя, которую рассматривали греческие философы. Земля отныне это только прах, выражающий собой ничто, то самое ничто, из которого был создан преходящий, временной и подверженный тлению мир. В схоластике материя делилась на два вида: materia prima и materia secunda. Первая представляла собой нечто аналогичное «нечто», из которого был сотворен мир, а вторая – пластическую субстанцию, отвечающую за телесную ощутимость и конкретное восприятие созданных вещей. Все, что не Бог, стало Землей. Показательно, что и Небо отныне именовалось «твердью», то есть почвой, землей, хотя и особой, небесной. Если вспомнить, что в Geviert'е Земля выступает как начало закрытости, закрывания, но вместе с тем и сохранения, укрытия, то Земля в креационизме как materia (prima и secunda) остается только закрытостью, но утрачивает свойство сохранности, укрытия. Материя как выражение ничто ничего не хранит и ничего не укрывает. Она напротив, привносит в вещи смертность и тлен. Слова псалмопевца «Помянем яко персть есмы»(29) говорят нам только об этом: созданный из земли (персти, глины, праха, тлена), человек не более, чем тлен.
И Небо (мир), и человек отныне являются тварями, сотворенными сущностями, ens creatum. В определенном смысле – как данность – ens creatum является и сама Земля. Все тварное есть в каком-то смысле земное. За Небом и его населением (ангелами) признается определенное превосходство в рамках общей иерархии тварей, но никакой онтологической особенностью Небо больше не обладает. А в смысле тождества Неба и мира у Хайдеггера, их значение заменяется Божественным Промыслом, устраивающим мировой порядок в соответствии с творящим, сотериологическим и эсхатологическим замыслом.
Негативное уравнивание в правах трех участников Geviert'а перед лицом трансцендентного Бога имеет и «положительную» сторону, сконцентрированную в сотереологии – учении о спасении души. Человек, хотя и созданный из ничто, «перстный», но способен обратить к Богу напрямую – ни широта Земли, ни высота Небес, не являются для него более преградами. Абсолютная удаленность Бога апофатически открывается как его близость. В христианстве это дополняется и другим важнейшим вероучительным положением: Воплощением. Сам Бог-Творец в одном из своих Лиц воплощается в человеческой природе, открывая человеку путь обожения.
Поэтому человек, оставаясь тварью и «земным», «перстным» ставится выше остальной твари и даже в чем-то выше Неба. Путь на Небо открыт ему Христом.
Но для Хайдеггера теологические утверждения представляют собой лишь движения в пространстве платонической метафизики, где фундаменталь-онтологическая проблематика невозможна. Поэтому Хайдеггер уделяет разбору теологии не так много внимания, рассматривая христианский период в истории западно-европейской философии, как затянувшуюся интерлюдию между Платоном и Аристотелем, с одной стороны, и Новым временем, с другой.
Что касается точки пересечения осей Geviert'а, где мы располагали Seyn-бытие, Ereignis и вещь, то эта точка в теологии также трансформируется. Бытие перестает быть не только Seyn, но и Sein, разделяясь на две части – бытие Бога (как высшего сущего) и бытие мира, как тварное бытие. В такой ситуации вопрос о бытии как таковой в корректной, по мнению Хайдеггера, форме, ставиться вообще не может. И в этом он видит признак «удаления бытия», «оставленность бытием мира» (Seinsverlassenheit), «забвения о бытии». Ereignis, исчезнувший из горизонта философии сразу после Начала (более того, Хайдеггер склоняется к тому, что Ereignis – это вообще свойство не всякого Начала, а именно другого Начала, поэтому помещать его в центр Geviert'а надо с учетом этой оправки), не появляется и в теологической картине мира, хотя, в отличие от Платона, в христианстве мы сталкиваемся с событием, имеющим для всей христианской веры абсолютное значение. Таким событием является Пришествие Христа, Бога-Слова (Логоса). Было бы совершенно некорректно рассматривать христианскую космологию как особое издание Geviert'а с событием (Ereignis) Пришествия Христова в центре, так как Хайдеггер понимает Ereignis совершенно иначе и связывает его не с сотериологией, а с фундаменталь-онтологией, но и не отметить этой параллели нельзя, хотя ее корректное истолкование потребовало углубленного экскурса в богословие.
И наконец, что касается вещи, то она здесь превращается в тварь, ens creatum, и ее онтологическое значение полностью совпадает с ее местом в иерархии творения; к этому и сводится ее идентичность. В целом схоластика принимает аристотелевскую теорию вещи (форма и материя), но общая креационистская перспектива однозначно толкует вещь как созданную вещь. Если у Аристотеля tecnh еще есть в каком-то смысле подражание человеком творческой мощи fusiz, то у Фомы Аквинского сама природа (Natura) подражает техническому мастерству Божества. Пропорции между природой и культурой существенно меняются в пользу культуры, и человеческое производство, возведенное в степень Божества, становится образцом и парадигмой для осмысления процессов в природе, которая в свою очередь начинает мыслиться как огромный, созданный Творцом механизм, аппарат. Так в целом представление о вещи как об ens creatum, res creata, существенно приближает нас к последующему триумфу того, что Хайдеггер назвал Machenschaft.
Можно суммировать изменение Geviert’а в схоластическом богословии на следующей схеме.
Бог-Творец
трансцендентный
ENS INCREATUM
![]()

![]()
ENS CREATUM
Небо
Завет Воплощение
Человек
Земля
В этой схеме следует обратить внимание на то обстоятельство, что сама структура христианского богословия противиться изображению ее в четверичной фигуре, не смотря на то, что фигура Креста является главным знаком христианства. И хотя о значении и символизме четверичности Креста написано множество экзегетических и мистических текстов, а связь этого символа с различными учениями о четырехчастной структуре мира (четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света, четыре евангелиста и т.д.) напрашивается сама собой, к сущности христианской онтологии это отношения не имеет.
Geviert в метафизике Нового времени
Философию Нового времени принято отсчитывать от Г.Галилея Ф.Бэкона, И.Ньютона, Б.Спинозы и особенно Р.Декарта. После долгого периода доминации теологии и схоластического (избирательного) аристотелизма, взятого, к тому же в латинском переводе (что упускало многие важнейшие стороны собственно греческого мышления) Западная Европа обратилась к новому стилю философствования, поставившему своей целью освободиться от средневекового догматизма, схоластического аристотелизма и давления богословских аксиом. Благоприятные условия для этого создавала протестантская Реформация, бросавшая вызов католическому догматизму и непререкаемому до селе авторитету церкви.
Хайдеггер, однако, подчеркивает, что наряду с действительно «новыми» (по сравнению со Средневековьем) элементами этой философии, мы видим в ней продолжение, развитие и утверждение все той же платонико-аристотелевской метафизики, все то же категориальное мышление с отсылкой к онтологии, сущности сущего, идее и т.д. Новое время не преодолело старую метафизику, оно лишь довело его посылки до логического конца виды, вывела и проявила все заложенные в ней следствия. Поэтому в философии Нового времени мы встречаем и следы многовековой работы схоластического образы мысли, и всплытие более глубоких собственно западно-европейских парадигм, которые смогли проявиться с большей ясностью, откровенностью и отчетливостью.
Новое время с первых своих манифестов и программ обнаружило себя как время tecnh, техники, причем отныне главный полюс техники переносился со средневекового Бога-Творца, на самого человека, ставшего с эпохи Возрождения главным «творцом» -- культуры, общества, экономической системы, политики и т.д.
Мы показали, что по мысли Хайдеггера, именно человеку было вверено решение (Entscheidung), предопределившее ход становления первого Начала и соответственно судьбу западно-европейской мысли, и, соответственно, западно-европейской истории (Geschichte). Именно человек, соответственно, отвественен за «порчу Geviert'а». В Новое время это обстоятельство, завуалированное в эпоху схоластики, обнаруживается в полной мере. В философии Рене Декарта это достигает своей кульминации. В вынесении главного онтологического суждения о бытии, главной инстанцией Декарт называет человеческое ego, мыслящее ego (res cogens) – что выражено в его формуле cogito ergo sum. Так складывается философская топика субъекта, онтологически конституирующего своим мышлением объект (и Бога – в деизме). Будучи радикально новым движением мысли с формальной точки зрения, такой поворот, на самом деле, лишь вскрывал главный посыл изначальной греческой философии, где большими обобщениями, богами, стихиями, идеями и космогоническими конструкциями уже мерцала предваряющая тень будущего субъекта, который, правда, назывался тогда по-другому – yuch, nouz и т.д. Поэтому Возрождение с новым пафосом принялось открывать для себя древнегреческих авторов – в большинстве случаев некорректно и упрощенно трактуя их мысль, философы Возрождения интуитивно догадывались о том, что наступающая в Европе эпоха глубинно связана с периодом первого Начала, представляя собой в некотором смысле его зеркальное отражение. Отсюда такое влияние идей Демокрита на Галилея и Гассенди, Платона на Николая Кузанского, отсюда неоплатоническая Академия во Флоренции (Гемист Плетон, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола и т.д.), отсюда всплеск интереса к милетской школе, Пармениду, Эпикуру, Лукрецию и т.д.
Новое время было временем начала Конца, также как Платон и Аристотель представляли собой эпоху конца первого Начала. Начало отражалось в Конце. В еще большей степени, это очевидно у тех западно-европейских философов, которые подводили итог метафизике Нового времени – у Гегеля и Ницше; оба они усердно и непрерывно обращаются к грекам (в первую очередь, к досократикам и особенно Гераклиту).
Что мы получим, если наложим топику Geviert'а на философскую схему Нового времени?
На месте человека мы имеем субъект. Субъект представляет собой фигуру, которая ставится в центре всей онтологической конструкции. Субъект – это сущность (essentia, ousia) человека, тождественная с его способностью к рассуждению, рациональной деятельности. Со всех точек зрения, субъект является прямой конструкцией старой метафизической топики. Во-первых, речь идет о сущности что сразу отсылает нас к платоновской идее, заменяющей собой Seyn-бытие. Эссенциалистское мышление и эссенциалистское толкование человека как обобщающей сущности (вида-eidoz) еще более укрепилось в христианской теологии. Поэтому субъект основывается на всей этой метафизической базе. Во-вторых, в основе субъекта лежит определения человека как animalis rationalis, «мыслящего животного». Что касается «animalis», то этим позднее займется Дарвин и эволюционисты, вплоть до этологии (К.Лоренц), а rationalis делает главным свойством субъекта уже Декарт, отождествляя рассудок с сущностью человека.
Но вместе с тем, новаторство этой философии состоит в том, что выдвижение на первый план субъекта освобождает его (как последнее философское издание человека) от зависимости от каких бы то ни было вышестоящих онтологически инстанций и в первую очередь от бытия, которое отныне становится производным от суждения субъекта: мышление субъекта есть доказательство его бытия; следовательно, бытие есть функция от мышления и субъектности. Далее эта тема будет развита у Канта, который еще более очистит эту философскую топику Нового времени, сформулировав конструкцию «чистого разума», то есть автономную структуру все того же rationalis.
Человек как субъект превращает все остальное, то, чем он сам не является, в объект. Понятие объекта неразрывно связано с субъектом. Объект – это то, что лежит перед субъектом, что пред-лежит ему (отсюда немецкое Gegen-stand, «стоящее напротив» или русское «пред-мет» -- то, что «метнули перед»). Поэтому объектами в такой системе координат становятся все остальные члены Geviert'а – Земля, Небо, Бог (причем, речь идет о Боге переосмысленном из теологического контекста, о Боге в единственном числе, хотя в Возрождении делаются робкие попытки обратиться к своеобразной версии политеизма – гилозоизм Б.Телезио, пантеизм Дж.Бруно и алхимической традиции, вплоть до Спинозы и позднее немецких романтиков). Объектность их различна: Бог – объект высшего порядка, Первоначало, существование которого рассудок постулирует, задумываясь о своем собственном происхождении; Земля и Небо совокупно составляют объект низшего порядка, нечто пространственное (по Декарту), res extensa, «протяженная вещь». Субстанциальное тождество Неба и Земли, то есть земную (материальную, телесную) природу Неба приоритетно обосновывала английская эмпирическая философии – в первую очередь, И.Ньютон.
Итак, мы в философии Нового времени мы получаем следующую дисфигурацию Geviert'а.
 Высший объект, Бог деизма, causa sui, логическая первопричина
Высший объект, Бог деизма, causa sui, логическая первопричина
онтологический аргумент
(бытие из мышления)
![]() Субъект Низший объект,
Субъект Низший объект,
res extensa (Небо и Земля), материя
Мы видим, что в данном случае структура Geviert'a еще более исказилась. Небо слилось с Землей (природа небесных тел была распознана как строго такая же, как и тел земных – что отрицалось всеми предшествующими философскими толкованиями устройства мира). Суждение о бытии объекта (и высшего и низшего) стало делом субъекта. Бог деизма постепенно лишался свойств субъекта и становился ментальной абстракцией (не мудрено, что на следующем этапе философия Нового времени и вовсе ее отбросит).
Эта философская топика Нового времени является принципиальной, так как в основных своих параметрах представляет собой карту Конца, последнюю стадию разложения Geviert'а, который сохранял ранее хотя бы какую-то корреляцию в его начальным обликом.
Gestell как судьба
Здесь мы подходим к ключевому понятию философии Хайдеггера (особенно в последний период его творчества), к понятию Gestell (дословно, «по-став», но также «су-став»). Gestell может быть рассмотрен как фундаментальная seynsgeschichtliche работа по разрушению (искажению, разложения) Geviert'а. Без учета этапов деформации и сокрушения Geviert'а Gestell непонятен. Gestell это Verwüstung, опустынивание, неумолимо надвигающаяся катастрофа, но вместе с тем действие, с помощью которого человек Запад реализует свою историю (судьбу, Geschichte).
Человек подменяет вещь сначала символом, потом сотворенной вещью, потом объ-ектом, пред-метом. Так постепенно происходит опредмечивание мира. Предмет --это уже не вещь, это далекая производная от вещи.
Когда человек больше не способен конституировать и воспеть вещь (Ding) в ее сакральности, в ее наличности, в ее поэтичности, он воспроизводит предмет (Gegenstand). Предмет — это не другое название вещи. Предмет — это конец вещи, когда вместо пересечения двух животворящих осей войны в Geviert' е мы имеем дело с искусственными мертворождающими конструкциями человеческого рассудка.
Gestell — это фундаментальная работа сути человека по разрушению Geviert, а значит, из поэта человек превращается в пролетария, в «производителя» и на определенном этапе вообще ничего больше кроме своей экономики знать не хочет. А всё началось с поэзии…
Человек настолько отрывается от мира и его областей, от свободного и горделивого существования (Wesung) вещи, что имеет дело только с искусственными предметами, полностью находящимися в его воли, поскольку он см же их и производит. В этом производстве нет месту ни Небу, ни Земле, ни богам, ни Богу. Здесь всецело царит человек и только человек, как субъект (хозяйственный субъект, правовой субъект, политический субъект и т.д.) Постепенно его начинают раздражать не просто природные вещи (такие он старается искоренить как класс), но различные произведенные им вещи. Они слишком «спонтанны», «самобытны», а значит, «свободны» и «автономны» от его воли. Поэтому человек постепенно переходит к массовому, серийному производству, «к вечному производству одного и того же» – «ewige Herstellung der Gleichen». Это индустриально-экономическая версия «вечного возвращения» Ницше.
Gestell — это фундаментальное явление для Хайдеггера. Gestell — это судьба человека. Gestell — это суть человеческого существа на пути развертывания последствий решения, принятого в первом Начале. Gestell – прямая противоположность Geviert'у, его альтернатива и процесс его искажения, разрушения, низвержения(30). Но вместе с тем сквозь само это разрушения Хайдеггер слышит голос Seyn-бытия. Этот голос – молчание, «покинутость бытием» (Seinsverlassenheit), сокрытие (Verbergen), но и его можно и должно услышать и расшифровать. Gestell есть глубинная суть tecnh и Machenschaft. И как суть (Wesen) она связана с Seyn-бытием, Seyn-бытие существует (west) через эту суть.
Хайдеггер говорит о «война Seyn-бытия с сущим»(31). Эта война основана на том, что соотношение Seyn-бытия сущему является проблематичной и неочевидной. Это – то, что более всего остального заслуживает вопрошания. Если же вопрошание конституируется не должным образом, если на него дается слишком поспешный или неверный ответ, если оно становится одним из вопросов на ряду с другими, – а решение во всех случаях принимает человеку как носитель речи как формы существования Seyn-бытия, -- то Seyn-бытие вступает с сущим в войну. Имя этой войны Gestell.
Здесь мы приближаемся к самой важной теме: как мыслить нигилизм и катастрофу Конца философии недуально?
В дуальной схеме Geviert мыслится как нечто аутентичное, а Gestell – как неаутентичное; Geviert открывает Начало, Gestell есть работа по приближению Конца. Но Хайдеггер всеми способами подводит нас к тому, что такое дуальное мышление в корне неверно. Они никогда не может решить философскую проблему, и даже ее корректно поставить. Мыслить надо недуально и если угодно нелогично. Противоположности должны не просто преодолеваться синтезом (как чем-то третьем), они должны мыслиться одновременно и как противоположности и как непротивоположности. Geviert – это мир, в котором почитается Seyn-бытие, это мир, увиденный фундаменталь-онтологически, как он существует (west) по сути (Wesen). Gestell – это упорная, многовековая и целенаправленная деятельность по разрушению, искажению и уничтожения такого мира, самонадеянное забвение о Seyn-бытии, серия по-дурацки сформулированных вопросов и еще более дурацких ответов. Gestell – это полный провал человека, его катастрофа, его неудача, его самоотрицание, невыполнение задания, это его никогда не кончающийся конец, его неосознанное как к таковое умирание и убийство всего вокруг себя. Как это совместить? Как увидеть и в том и в другом ровный и тихий голос Seyn-бытия? Как распознать в этом судьбу (Geschick - Geschichte)?
Gestell – это сущность неаутентичного состава мира. Он появляется как скелет мира, когда Seyn-бытие неверно мыслится как Sein-бытие. Seyn-бытие открывается как Ereignis в Geviert'е; Sein-бытие как рутина в Gestell'е. Но при всей фундаментальной – самой фундаментальной из всех -- противоположности Seyn и Sein, они не суть разное, но в предельном горизонте – одно и то же.
Это не простая мысль. Пожалуй, это самая непростая их мыслей. Но в осмыслении этой мысли лежит ключ ко всей философии Мартина Хайдеггера.
Индустриальная трансформация четверицы
Хотя с философской точки зрения, Gestell полностью обнаруживает себя в метафизической топики Нового времени вместе с Декартом и на этом можно было бы теоретически закончить разбор деформации Geviert'а в западно-европейском мышлении, тем не менее для наглядности можно проследить и более конкретные трансформации, обнаруживающиеся тогда, когда Новое время из философской программы претворяется в политическую, социальную, идеологическую и экономическую практику. Это даст нам некоторые наглядные образы и фигуры, облегчающие понимание умозрительных философских проблем.
Новое время достигает пика своей реализации вместе с индустриализацией, которая воплощает на практике основные тенденции, сложившиеся со всей откровенностью в философии эпохи Модерна.
В этот период мировые области Geviert'а претерпевают наглядные изменения, основное содержание которых, впрочем, можно было легко обнаружить уже у Декарта. НО все же между началом Конца и самим Концом есть некоторая дистанция.
Самое существенное изменение касается Бога. В Конце философии «Бог умирает». Таким образом рушится целая область мира, которая начиная с Geviert’а и до Декарта так или иначе присутствовала в философской топике. Фраза Ницше «Бог умер» означает радикальное изъятие из онтологической картины не только конкретной фигуры Бога, но всего измерения, ранее обязательно присутствующего в философской топике, а в теологии бывшей основой всей онтологической конструкции. «Бог умер» означает не просто перечеркивание высшего сущего, божественной Личности, но аннулирование целого измерения, отдельной мировой области, которая была и в Geviert'е и во всех остальных онтологических картах. Вот это и есть настоящий конец Geviert'а (четверицы), так одно из четырех измерений пропадает самым радикальным образом. Это называется атеизм, отказ от признания Бога. Хайдеггер показывает, что атеизм, радикально изменяя онтологическую топику, все равно остается в рамках западно-европейской метафизики, так как на место аннулированного измерения ставится другое, скалькированное с прежнего. Это либо материя (у материалистов и марксистов), либо ничто (у агностиков), либо польза, ценности, проживание (у утилитаристов, либералов и философов жизни). Пустое место, поставленное там, где раньше пребывало Божественное, выполняет в метафизики индустриального мира ту же роль, что выполняло ранее божество. Это продолжает оставаться источником высшей легитимации, высшего мягкого кивка, означающего «божественное» одобрение, приятие, согласие. Только отныне ничтожность этой легитимации позволяет говорить о «легитимации со стороны ничто». Ничто одобряет или осуждает судьбу человека. Те, кто могут смотреть правде в глаза, так и формулируют дословно: «Ничто одобряет или осуждает». Те, от кого трагизм данной ситуации ускользает, предпочитают говорить так: «Ничто не одобряет и не осуждает.» Первые относятся к сознательным нигилистам (Консервативная Революция, фашизм), вторые – к нигилистам бессознательным (коммунизм, либерализм).
Начиная с Платона Небо было вместилищем идей, а позже в христианстве Небо стало престолом Бога, хотя и признает его «тварным». Ньютоновская космология принципиально по качеству общего вещества, общей субстанции приравнивает Небо к Земле, но окончательно Небо как Небо исчезает в эпоху индустриализации, когда триумф науки и техники – через полеты в космос и проникновение вглубь вещества – квантовая механика, теория относительности, теория поля и т.д. Неба как Неба больше нет. Повсюду человек встречает только земное вещество, материю(32). Спутники замостили Небо мигающими аппаратами, железными корпусами и везде проникающими радиоволнами, довершив ту десакрализацию, которую начали платонвоские идеи. Спутники – это идеи индустриальной эпохи.
Земля также перестает быть Землей. Урожаи из нее выбиваются насильно, ее травят химикатами, чтобы добиться невозможного; в ней проделывают глубокие дыры, чтобы достичь ее черной нефтяной крови, взрезают ее внутренности, чтобы лишить ее дыхания – газа. Земля становится ресурсом, то тем, что надо вычерпать и уничтожить, спустить на нет, отдать энтропии. Если ранее сам принцип Земли выступал как нежный женский саботаж небесного порядка, то сегодня саму Землю человечество пускает на пыль, нещадно насилует, губит, опустошает, травит, опрыскивает кислотами и отходами цивилизации, палит и мучает.
Человек индустриальной эпохи далек от человека Geviert'а больше, чем себе этого возможно представить. Он настолько раздул свою субъектность, что сделал самого себя микроскопическим, бесконечно малым, никаким. Об этом писал Ницше, говоря о «последних людях». Последние люди – люди Конца. Производя горы мусора они становятся мусором.
Вещь при этом превращается в индустриальный продукт, товар, то есть она уже существует не на тинге, вече, не в окружении святого собрания, но исключительно на рынке. Одни производят вещи, другие перепродают, третьи потребляют, и все они создают единый поток позднечеловеческих, позднеисторических механизмов – производства, потребления, жажды, переживаний, желаний.
Пролетарии и буржуазия окончательно крушат то, что было разрушено перед ними титанами Античности, Средневековья, Возрождения, героического начала Нового времени. Geviert был обрушена гигантами, а «последние люди» лишь копошатся среди развалин, утаскивая кто, что может.
Человек становится человеком производящим, человеком торгующим, человеком потребляющим. Homo economicus. И уже не собственно человек, как субъект становится мастером мировой игры, а сам Gestell, замещающий собой и бытие, и событие, и вещь, и человека, и все остальное. Промышленное производство становится судьбой homo economicus, и предопределяет наиболее существенные стороны индустриальной эпохи: истерическое накопление капитала и попытка перераспределить производимое в свою пользу со стороны революционного пролетариата.
Индустриальная топика может быть отображена на следующей схеме.
Ничто, отсутствующий Бог, ценности – переживания -- интересы
![]()
![]() Gestell
Gestell
![]()
![]() Вещь как товар
Вещь как товар
Homo economicus Природные ресурсы
производитель/потребитель (земные, космические)
С точки зрения формального подхода это выглядит совершенно «новым» в сравнении с картой картезианской метафизики. Но с философской точки зрения, индустриальная эпоха не добавляет ничего принципиального – в общем философском виде все это ясно читалось уже у Декарта и Ньютона, которые предопределили Новое время в его качественных границах.
Симулякр
Далее в западно-европейской истории следует еще одна фаза. До нее Хайдеггер, правда, не дожил. Речь идет о Постмодерне, где вся топика – еще один раз – претерпевает существенные изменения. В постиндустриальном пейзаже цивилизации определенные мыслители (Ф.Фукуяма) объявили о конце истории (Geschichte), признав при этом, что осознание этого конца как онтологического явления не состоится, и поэтому Конец будет «бесконечным». Наступив, он не наступит, не состоится, не сбудется, так как не будет больше человека, способного принять решение о том, что конец – это Конец, и взять на себя ответственность за эту глубинную конечность Конца. Тот же Ницше говорил о «последних людях»: «Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живёт дольше всех. «Счастье найдено нами», - говорят последние люди, и моргают.»(33)
Показательно, что Ф.Фукуяма, провозгласивший «конец истории» упомянул в названии своей книги и «последнего человека»(34).
Основные мировые области (Weltgegenden) Geviert'а могут быть обнаружены и в Постмодерне, но это зрелище не для слабонервных.
Вместо Неба зияет огромный экран – рекламного биллборда компьютера, прозрачной завлекающей витрины. На нем проецируются темные желания субъекта, выдавливаемые ранее под порог восприятия стоической работой сознания. Это animalis, освобожденный от rationalis, дает о себе знать. Но разве такие animalis есть в сущем? Разве животные, «живые», «zoon» способны делать и желать такие мерзкие вещи, как последние люди? Это не animalis, но механическая первертная греза выпотрошенного человека создает образы на экране. Он свергает рассудок и хочет быть животным, но не может им быть, потому что он не животное. А кто? Ведь нельзя же назвать «то» человеком ни в одной из известных нам топик. Он не «животное» потому что он никто, и его цель не становится кем-то, но не становясь никем, прорваться к Seyn-бытию, чтобы дать его свечению речь. Не выполняя этого, утверждая себя как человек, человек уже совершает не поправимую ошибку. Он ставит вместо вопросительности своей идентичность поспешный и заведомо неверный ответ. Так создается человечность – человечность, которой нет. Поэтому немудрено, что долга такая человечность не держится и обрушивается в какой-то момент (в момент Постмодерна) в новую химеру – в человека-зверя. Не в силах быть человеком (это бытие как строгая формула само по себе есть заблуждение), последний человек в отчаянии бросается фигурам христианского Апокалипсиса – к тем местам, где говорится о «звере» и его числе. Так как последний человек не умеет ничего другого, кроме как считать, он пытается «счесть число зверя», догадываясь, что таким образом он найдет в «звере» самого себя. Звероподобия и бесовселение – последние иллюзии последнего человека, так как он не зверь и не бес.
Человек становится постчеловеком. С одной стороны, это сверхчеловек-техник, ловко соображающий, занимающийся web 2.0, способный нагромоздить потоки информационных данных. С другой стороны, — недочеловек, тоже вариация постчеловека, — это потребитель, юзер, тыкающий пальцем и глазом в «дружественный интефейс», переходящий по бесконечным ссылкам, уже не будучи способным воспринимать текст, он просто ищет в базах данных то, что более соответствует его представлениям о «сейчас». Это постоянное интернавтическое блуждание по симуляционным, подмигивающим предметам, когда, глядя в экран, невозможно понять, то ли это экранные изображения, то ли начался off-line, а может, он продолжает еще с кем-то общаться по ICQ.
Но оставим эту страшную тему точной квалификации наших современников, до которой Хайдеггер, слава Богу, не дожил.
Земля исчезает в легкости коммуникаций, все места становятся одинаковыми, и реализуется утопия. Утопия — это то, где нет места. С точки зрения Хайдеггера, Земля открывает себя через место. Земля — это и есть место, естественное место. А сегодня мест нет, сегодня нет дистанций, ничто друг от друга не отделено, все места, города, точки и Макдоналдсы земного шара совершенно одинаковы, там сидят одинаковые люди с серьгами в ушах, болтают, пьют пиво, входят в Интернет, курят легкие наркотики.
Земли тоже больше нет, она превратилась в виртуальное пространство, где самое далекое банально, а близкого просто не существует. Все что делала Земля на всех этапах ее участия в Geviert'е и позже в других философских топиках, более не требуется. Земля более не ресурс, а хранилище отходов. За нее борются как за место хранения мусора, включая мусор человеческий, самих «последних людей», «обретших счастье». Земля отныне это то, куда зарывают отходы. Будь-то отходы производства, будь-то тела умерших и ли их сожженный прах.
Бог становится шуткой. Он возвращается из модернистского ничто в форме дурашливой карикатуры. Его больше даже никто не гонит, не убивает. Его смерть потеряла всякое значение, и поэтому о ней забыли. Не то, чтобы он воскрес, но он снова появился как ни в чем не бывало, как незалежный покойник.
О Боге сегодня модно говорить, а можно молчать. Он никого не интересует, а если кого-то и интересует, то не более, чем интрижки популярного актера или супермодели. Нет, интрижки популярного актера или супермодели интересуют гораздо больше, чем Бог. И все же он возвращается, но на сей раз как пародия, как насмешка над его смертью, которая забылась потеряла всякое значение. «Кто-кто, вы говорите, умер?»
Появляется на телеэкранах бен Ладен, который говорит на камеры: «Аллаху Акбар!» «Аллах велик!». Его тут де принимаются ловить, но не могут поймать. Он нигде, его не могут поймать, он вне места, в утопии телеэкрана. Погоня за ним становится детективным сюжетом. Бин Ладен и Аллах меняются местами, но напряжение публики не спадает. Когда же его поймают: кого? Аллаха? Бин Ладена? Садам Хусейна? Муллу Омара?
В ответ ему экс-президент США Дж.Буш-младший провозглашает (на вопрос, почему он принял решение напасть на Ирак): «God said me, strike Iraq!» («А мне сказал «бог» — ну-ка, ударь по Ираку»). Мы уже этому не возмущаемся и не восторгаемся. Принимаем как должное. Он президент США, самой мощной и успешнеой демократии в мире, ему вполне может позвонить сам Бог.
Если бы на предшествующей стадии опустынивания (в Модерне) кто-то сказал бы, что «Бог не умер», то его посадили бы в психиатрическую клинику, а сейчас, в эпоху Постмодерна, что ни говори про «бога» или не про «бога» — всё примут. От последнего безразличия.
Вещи превратщаются в симулякры (Ж.Бодрияр). Они становятся производным от моды, в которой как в своем последнем воплощении нас настигает и накрывает с головой Gestell.
Вещь заканчивает свой путь. Она отныне симулякр, уже больше не идея, не знак, не предмт и даже не товар, но чистый воплощенный обман. Товар, в котором вещь умирает, сохраняет все же связь с производством, с полезностью, некую последнюю рациональность. Но и этому приходи конец. Симулякр – это, по определению Бодрияра, «копия без оригинала», подобно ксерокопии такого плохого качества, что фантазия может угадывать на ней все, что заблагорассудится – портрет Президента, женскую фигуру, пейзаж или художественный текст. Вметсо вещи Постмодерне утверждает пятн Роршаха, бессымленную и ненужную кляксу, ни к чему не годную и пустую, но в силу бесконечной воли к власти моды возводимую в абсолютный категорический императив.
Законы моды как высшего уровня Gestell Постмодерна:
· вещи живут мгновение;
· вещи должны быть бессмысленны, в этом их смысл;
· вещи надо менять;
· после вещи есть только другая вещь;
· идентичные вещи различны;
· вещь все, остальное ничто;
· вещь не умирает, ее выбрасывают;
· вещь больше, чем жизнь.
Чем короче жизнь вещи-симулякра, тем она интенсивнее. Правильные ботинки Постмодерна — это те, которые одевают один раз. Это логика моды (Gestell), она становится быстрее и быстрее. Раньше люди носили по нескольку лет вещи, сейчас — сезон, а то и полсезона, но и это не предел. Смена вещей с бешенй скоростью, это фарика смерти вещей, их планомерный и систематизированный геноцид.
За энтропией вещей, за переходом к режиму тотального симулякра стоит готовность культуры к окончательному уничтожению Geviert'а.
Вместо бытия мы имеем дело отныне с «виртуальной реальностью». Само понятие «реальности» в метафизике Нового времени в высшей степени «виртуальлно», в том смысле, что фиктивно и онтологически необосновано. Когда субъект постудирует то, тчо он имеет перед собой как объект, он уже совершает весьма сомни тельную операцию по онтологическому обоснованию реальности этого объекта. О,ъект объективен (то есть он есть «на самом деле») потмоу, что он объект, то есть этимологически потому, что он «передо мной» (субъектом). У Декарта, Ньютона, Юма и Кjнта это выглядит серьезно и торжественно, с тем особым напыщенным пафосом, с которым ограниченные умы обычно провозглашают очередные непродуманные нелепости и бессмысленности. Но еще более ограниченные созданья легко покупаются на эти ученые сказки о реальности и бредят в лабиринте таких категорий веками. Переход от реальности к виртуальности, или к виртуальной реальности, есть переход от шутки, воспринятой всерьез, к шутке, над которой надо (можно) смеяться. Виртуальная реальность просто доводит идею объекта до абсурда, тем самым доводя до абсурда и идею субъекта. Это «ухмылка ничто» (grinning nothingness).
Трудно изобразить топику Постмодерна. Но можно предложить в качестве гипотезы такой (спорный) вариант.
Виртуальная реальность – экран - connectedness
![]() Симулякр – искусственное солнце,
Симулякр – искусственное солнце,
солнце ночи, ухмыляющееся ничто
![]()
![]() Мода (Gestell)
Мода (Gestell)
Последний человек («дьявол носит Прадо»)
постчеловек
«Бог» как коун-убийца с Марса
Земля кладбище токсичных отходов
Небо как
место блуждания железных
испускающих сигналы спутников (+ космонавты)
Эта топика настолько жутка, что может быть названа пост-эсхатологической.
Глава 13. Geviert в другом Начале
Geviert и горизонт будущего
Мы рассматривали в данном разделе Geviert как возможность в первом Начале и как фундаменталь-онтологическую карту, позволяющая нам лучше понять процессы, движущие западно-европейской философией в сторону ее Конца. Но по мысли самого Хайдеггера, Geviert относится к области «будущего», которое должно сбыться в другом Начале – в момент Ereignis'а. И несмотря на то, что определенные параллели с первым Началом, пока оно еще не дошло до момента создания платонической топики, были вполне уместны, собственно Geviert – это то, чего никогда не было в том виде, в каком оно должно сбыться в будущем.
Фундаменталь-онтология для Хайдеггера это проект (Entwurf), строящийся на осознании скрытого послания Seyn-бытия через всю историю (Geschichte) западной мысли -- послания состоящего в усугубляющемся сокрытии бытия. И поэтому Geviert следует мыслить как горизонт, а в некотором смысле цель.
Наше время – это время решения (Entscheidung), считал Хайдеггер. И вместе с тем – это время смерти, могильный час. Суть решения состоит в следующем: либо западное человечество осознает, что его история была следствием выбора, совершено в первом Начале, принимает последствия «забвения бытия», признает нигилизма, заложенный в tecnh и Gestell'е, либо это человечество продолжает делать вид, что «все идет нормально», что никакого нигилизма нет и никакая катастрофа над миром не нависла. В первом случае, сам факт осмысления современности как нигилизма, как «скудных времен» и фиксация внимания на Gestell'е как уже реализовавшейся судьбе, означает переход к другому Началу, перенос внимания исключительно на Seyn-бытие и подготовку Ereignis. Тогда Geviert станет прямым и естественным следствием Ereignis’а. Сбывшееся событие учредит человека как стража Seyn-бытия, откроет порядок Неба и мира, спасет Землю и вернет ей ее достоинство, позволит богам (последнему Богу) прийти. И в центре этих осей Geviert'а снова воцарится священная (вещая) вещь.
Во втором случае, если будет принято решение не принимать никакого решения (это и будет, на самом деле, решением), могущество неосознанного Gestell'а, сила наступившего, но не признанного и неопознанного в должной мере Конца приведет к финальной катастрофе. И тогда Geviert'а не состоится, он не сбудется, и tecnh ввергнет человечество и Землю в неминуемую гибель.
В последние годы Хайдеггер склонялся к тому мнению, что человечество уж сделало этот выбор – второй фатальный выбор, и ситуацию спасти не возможно. «Теперь нас может спасти только Бог»(35).
В любом случае, чтобы корректно понимать философию Хайдеггера, следует относить Geviert именно и исключительно к будущему – которое, при этом, открыто и зависит от реализации человеком своей глубинной свободы.
Geviert как цель (воля к решению)
В отношении уже совершенного выбора могут быть определенные колебания. Совершенно очевидно, что выбор в пользу другого Начала в ХХ веке и в начавшемся XXI сделано не было. И тем не мене, с философской точки зрения, события разворачивались с предельной последовательностью и логичностью. В конце XIX века Ницше по сути оформляет конец западно-европейской философии. Это фундаментальный исторический (seynsgeschichtliche) факт. В Ницше философия достигла своего «эсхатона».
В ХХ веке Мартин Хайдеггер более чем кто либо еще, кристально осознает смысл всего философского процесса – от Начала до Конца. Хайдеггер философствует над могилой, расставляет все точки над «i», еще раз окидывает взором всю историю философии и отмечает безусловные периоды, смыслы и трансформации. ХХ век осмыслял Ницше, и глубже всех это делал Хайдеггер. Хайдеггер, зафиксировав Конец Запада, открыл горизонты другого Начала, вектор прыжка в Ereignis, очертил Geviert как задание. Более того, Хайдеггер грандиозно сопряг историю западно-европейской философии и Gestell с фундаменталь-онтологической перспективой, что сделало катастрофичность положения современного человечества не аргументом против Geviert'а, но доказательством его судьбоносной близости.
В самом ХХ веке Ereignis не произошел, решение о переходе к другому Началу не было принято. Этого решения невозможно было принять в рамках идеологий, открыто присягающих Machenschaft (коммунизм и либерализм), а там где его возможно было принять и отдельные моменты давали надежду на это (идеологии Третьего пути), его также не приняли (что и выразилось в зазоре между Консервативной Революцией и историческим национал-социализмом). То обстоятельство, что этого решения не было принято в Германии 30-х-40-х годов, сам Хайдеггер совершенно справедливо интерпретировал, как доказательство зараженности национал-социализма тем же духом Machenschaft'а, не способностью выйти за рамки западно-европейской метафизики (с Gestell'ем, субъектом, техникой, волей к власти и т.д.). Сам Хайдеггер видел свою философию как переход к другому Началу и соответственно, как обоснование Ereignis'а и приближение Geviert'а. Западно-европейская история (Geschichte) ХХ века е пошла за Хайдеггером, не оказалась на его уровне, не приняла и не вникал в его послание. Точно также не приняли и не поняли современники ни Гельдерлина, ни Киркьегора, ни Ницше в XIX веке. У Хайдеггера, совершившего в ХХ веке, а возможно и в истории философии вообще, столько, сколько едва ли кто-то еще совершал, имел все основания для отчаяния. Политическая, культурная и социальная история ХХ века полностью подтверждала его оценки, и сам он оказался в поворотный момент там, где его могли и должны были услышать – в Германии 30-х годов. Он был немцем, и немцы, казалось тогда, готовы взять на себя ответственность за изменение хода истории (Geschichte). Все элементы судьбы были собраны воедино. До Ereignis'а и достижения вселенской полночи оставался лишь миг.
Когда все рухнуло, для Хайдеггера это было величайшим испытанием. Трудно представить себе, какую травму он получил, наблюдая за событиями 30-40-х годов, пытаясь в них участвовать. И у него были все основания считать в конце жизни, что человечество твердо намерено покончить с собой, с Землей и миром, не менее радикально, чем оно покончило с Богом. Если судить по логике и смыслу явлений и трансформаций, которые пережило человечество после смерти Хайдеггера – ничто не свидетельствует о том, что его фатальный прогноз был неточным. Напротив, за последние десятилетия вырождение зашло настолько далеко, что никто не способен более осознать глубину и необратимость трагедии.
И теме не менее, можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. ХХ век, признав Хайдеггера великим мыслителем, мысли его по существу не понял, а сели и понял, то не принял. Растащенная на фрагменты философия Хайдеггера вдохновила сотни философов, психологов, художников, ученых, культурологов, в огромной мере повлияла на становление парадигмы Постмодерна. НО практически никто в полной мере и в ее целостности, ее не охватил и не пошел по пути, ведущему к другому Началу. Однако если человечество категорически не хочет признавать своего свершившегося Конца и упорствует в «планетэр-идиотизме», умирает не умирая, тянет «резину», пытается выкрутиться из тупика, сделать его вечным, то вопреки своей воле оно оставляет открытой возможность решить за него по-другому. XXI по сути еще не начался – то, что мы имеем сегодня, это со смысловой точки зрения, все ее век XX, который никак не может кончиться. XXI век начнется тогда, когда мы по настоящему возьмемся за осмысление философии Хайдеггера, и тогда у нас появится возможность сделать другой выбор, выбор в пользу перехода к другому Началу, выбор в пользу Ereignis'а, в пользу Geviert'а. Перед Хайдеггером была западно-европейская философия, сконцентрированная в немецкой классической философии и ницшеанском пике. Хайдеггер на ее основе, отталкиваясь от нее, совершил прыжок в бездну новой свободы. Перед нами сегодня лежит философия Хайдеггера. В ней имплицитно содержится и вся осмысленная им история философии, и Гегель, и Шопенгауэр, и Киркьегор, и Ницше. Но в ней есть и многое другое, что Хайдеггер сделал в перспективе будущего и его подготовки. Само явление Хайдеггера может быть интерпретировано как зарница Ereignis'а, и эта интерпретация может и должна стать императивом XXI века. Ereignis не состоялся в веке ХХ. Это факт. Но мы не были бы свободными, не были бы людьми, не были бы мыслящими существами, не были бы носителями великих индоевропейских языков, если бы опустили руки перед беснованием глобалистских толп, развлекающих рассеянных масс Постмодерна, рабов тоталитарной, отчуждающей, ничтожащей ядовитой моды.
Поэтому решение о приходе Geviert'а остается открытым. И эта открытость утверждается благодаря самому наличию философии Хайдеггера. Если у этой философии найдется хотя бы один адекватный читатель, преждевременно ставить на Ereignis'е крест. Или наоборот, живое дыхание Ereignis’а животворящим крестом перечеркнет нынешний мир, отдав сфере ничто его гипертрофированное, немыслимое раздутое произведение.
В этом случае образ Geviert'а может стать фундаментальной философской программой, целью, тем знаменем, которое соберет те «единицы», вокруг которых, по словам Ницше, вращается колесо Вселенной – те единицы, о которых говорит и сам Хайдеггер, как о «будущих» (kunftige). От них зависит будет ли будущее, начнется ли Начало, сбудется ли событие.
В таком случае структура Geviert'а в другом Начале будет такой:
Новое небо Последний Бог
 |
RES NOVA
Новая Вещь
ER-EIGNIS
Человек как страж Seyn-бытия Новая Земля
Новый гуманизм
Сноски
- Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1989, Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Gesamtausgabe Bd 69, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1998
- Heidegger M. Erlauterung zur Holderlin Dichtung. Holderlin und das Wesen der Dichtung, Gesamtausgabe Bd 9, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1981
- Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. 1950-59 Gesamtausgabe Bd 12, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1985
- Vorträge und Aufsätze. 1936-53. Gesamtausgabe Bd 7, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2000
- Здесь можно привести пример из совершенно другой области, но надо твердо помнить, что между философией Хайдеггера и в той топике, к которой мы сейчас обращаемся, нет никаких прямых параллелей, и данный пример перескакивает через сложнейшую и толком никем еще не проделанную работу по сопоставлению между собой философий двух крупнейших фигур философии ХХ века – Хайдеггера и Юнга. Карл Густав Юнг уделял большое значение символическому значению чисел 3 и 4. Он опирался на герметический текст «Марии-еврейки», где алхимически толковалась структура пифагорейского тетрактиса 1+2+3+4=10 (то есть снова 1, так как пифагорейский 10=1). В это формуле Юнг выделял первые три числа, которые по его толкованию связаны с рациональностью, с эго и трансцендентностью и которые составляют триаду; и четвертое число – 4 – которое он соотносил с природой и коллективным бессознательным. Юнг полагал, что 3 (триада, тринитарный принцип) относится к христианству (как рациональной трансценденталистской теологии), а 4 – к язычеству. Самое важное различие, по Юнгу, заключалось в том, что в языческую четверицу включается принцип зла (дьявол, тень), который категорически исключается из светлой троичности. Так, в частности, Юнг толковал споры учеников Парацельса (в частности, Адама фон Боденштайна и Герхарда Дорна), относительно определенных аспектов его учения и особенно в полемике с церковными критиками. Несмотря на то, что психоаналитические реконструкции и герметические рассуждения Юнга и философия Хайдеггера относятся к совершенно различным уровням, определенное сходство здесь есть, так как, по всей видимости, Хайдеггер имплицитно противопоставлял четверицу троичности в духе своего «греческого», «эллинского» и в чем-то «языческого» подхода. См. Юнг К.Г. Парацельс как духовное явление/Дух Меркурий, Москва, Канон, 1996; он же Архетип и символ. М., 1991
- Фрагменты ранних греческих философов, М., Наука, 1989 стр. 202
- Там же, стр. 201
- Там же, стр.202
- Русское слово «мир» как «вселенная» происходит от древнеславянского представления о трех явлениях, позже получивших разное толкование, но в корнях своих развившихся из одного и того же начала. Мир – как община, мир – как не-война, как мирное существование, мир – как вселенная. До реформы русского языка в начале ХХ века слова «миръ» (не-война) и «мiръ» (вселенная) различались, но в старославянском они писались одинаково, как и в современном русском (хотя в современном русском они трактуются как омонимы – слова звучащие и пишущиеся одинаково, но обозначающие разные вещи). Немецкое Welt состоит по всей видимости из двух корней «wer» и «alt», что согласно одной из этимологий связано с идеей древности, вечности, крепости, старшинства. По значению это может сближаться с древне-славянским «род» и санскритским словом «rita» -- «вечный неизменный порядок». Поэтому русское «мир» несет в себе целую цепочку значений отличный от немецкого Welt или греческого kosmoz.
9-0 В старорусском языке было два слова для обозначения мира — «свет» и «мир». При этом интересно, что понятие «мир» подразумевало взгляд со стороны земли, а «свет» -- со стороны неба, κοσμος, ouranoz. Немецкому Welt и латинскому mundus, равно как греческому κοσμος соответствует как раз древне-русское слово «свет» -- «белый свет».
9-1 Heidegger M. Der Ursprung der Kunstwerkes/Holzwege, Gesamtausgabe Bd 5, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1994 S. 31
9-2 Ibidem. S. 35.
9-3 Ibidem S. 42
9-4 Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Gesamtausgabe Bd 69, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1998, S.108
9-1 Heidegger M. Der Ursprung der Kunstwerkes/Holzwege, Gesamtausgabe Bd 5, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1994 S. 35
- Бегство богов для Хайдеггера является устойчивым сюжетом его метафизики. В некоторых высказываниях он дает понять, что в готовности бежать и способности бежать от человеческого присутствия состоит основной свойство божественности. Человек своими привычными метафизическими установками – в частности, через постоянно излучаемый им Gestell, -- все время спугивает божественное, отгоняет его, не позволяет засиять тихому божественному свету в центре четверицы.
- Ebrezza lucida – ит.; об этом в частности, писал Юлиус Эвола – см. «Оседлать тигра», М., 2005
- Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1989 S.438.
- Ibidem, S.439
- Ibidem, S.244
- Ibidem, S.239
- Ibidem, S. 492
- Хейзинга Йохан, Homo ludens, М., Прогресс - Традиция, 1997 и Fink Eugen Spiel als Weltsymbol, Stuttgart 1960
- Библия. Ветхий Завет. 3 Цар. 19, 12
- Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Gesamtausgabe Bd 69, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1998, S.211
- Heidegger M. Bauen Wohnen Denken (1951)/Vorträge und Aufsätze. 1936-53. Gesamtausgabe Bd 7, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2000
- Здесь и далее перевод наш.
- Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1989б S., 310
- Heidegger M. Uber den Anfang, Gesamtausgabe Bd 70, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2005 S., 157
- В романе бельгийского писателя Жана Рэя «Мальпертью» рассказана иная судьба некогда великих греческих богов; они выродились и превратились в зловещую семейку человекоподобных кукол. Не в силах умереть, они иссохли до жалких чучел… См Рэ, Ж. Точная формула кошмара. М., Языки русской культуры, 2000
- Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Gesamtausgabe Bd 69, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1998, S.21
- Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1989, S., 310
- См. в первую очередь Heidegger M. Das Ding (1951 )/Vorträge und Aufsätze. 1936-53. Gesamtausgabe Bd 7, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2000
- По-гречески poesiz , поэзия означает «созидание», «творение», «произведение».
- Псалтырь, Пс. 102, 14
- «Gestell – это то, что разрушает Geviert». Heidegger M. Zur Frage nach der Bestimmung der Sache des Denkens. St.Gallen, S.12
- Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), op. cit. S., 310 Полностью
Это высказывание звучит так: «Der Streit des Seyns gegen das Seiende aber ist dies Sichverbergen der Verhaltenheit einer ursprünglichen Zugehörigkeit.» «Война Seyn-бытия против сущего есть самосокрытие отношения изначальной взаимопринадлежности.»
- Немецкий поэт Готфрид Бенн писал об этом в стихотворении «Пение» («Gesänge»): «Все берег, вечно зовет море.» «Alles ist Ufer, ewig ruft das Meer».
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра Собр. Соч. в 2-х тт. Т.1. М., Мысль, 1992
- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек ООО «Издательство АСТ», 2004
- «Nur noch ein Gott kann uns retten». Spiegel-Gesprach mit Martin Heidegger am 23. September 1966 // Der Spiegel . 30. Jg . N 23. 31. Mai 1976.
Раздел 3. Dasein
Глава 14. Три этапа развертывания философии Мартина Хайдеггера
В философском творчестве Хайдеггера можно выделить три основных этапа.
Первый этап – формулировка основной проблематики и введение понятия Dasein. Кульминацией этого периода является написание главного труда «Sein und Zeit»(1)(1927). Этому предшествовало осмысление феноменологического подхода Гуссерлю(2), а за этим последовал период размышлений над теми грандиозными перспективами, обозначенными в этой фундаментальной для всей истории философии книги.
Второй этап – 1936-1946 известен менее всего. Это связано с целым рядом причин, прежде всего политических. Хайдеггер в тот период был связан с национал-социализмом, и даже его постепенная маргинализация не аффектировала его в целом устойчиво положительное отношение к этому феномену, осмысляемого в особом глубинном измерении, что в целом гармонировало с общим подходом представителей Консервативной Революции. Этот период – являющийся пиком его творческой философской активности -- проходит под знаком размышлений о Seynsgeschichtliche, Seyn и особенно о теме Ereignis. Сам Хайдеггер писал в заметке к «Письму о гуманизме»(3): «Начиная с 1936 главной темой моих размышлений был Ereignis».
В эти годы Хайдеггер живет надеждой на преображение национал-социализма в глубинно философское явление, которое призвано осуществить фундаментальный поворот западно-европейской цивилизации и мировой истории в сторону «другого Начала» (die andere Anfang), сопоставимого и даже превосходящего «первое Начало» (die erste Anfang), когда возникла греческая философия. Для того, чтобы исторические предпосылки Ereignis состоялись, Германия (в ее лице Европа) должна была одолеть две формы крайнего нигилизма (Machenschaft) – США (ненавистный Хайдеггеру «Americanismus») и СССР (Хайдеггер видел в марксизме триумф технического). Победу нацистской Германии в войне сам Хайдеггер связывал с осуществлением философской операции – осмысления сущности Machenschaft и ее интерпретации в контексте истории западной метафизики. Без этого война, предупреждал он, будет проиграна(4).
Осмысления не было, война была проиграна.
Такой Хайдеггер «среднего периода» по вполне понятным причинам был поставлен вне философского дискурса после 1945, и поэтому практически не известен. А между тем именно в этой части философ излагает свои глубинные идеи наиболее полно и откровенно(5).
Из этого периода известны работы Хайдеггера о Ницше(6), бесспорно фундаментальные, но далеко не исчерпывающие центральную проблематику тех лет.
Если мы упустим содержание этого периода, то нами в должной степени не могут быть поняты ни идеи раннего периода – Sein und Zeit, ни более поздние работы.
Третий период включает в себя послевоенные годы вплоть до смерти философа. Они представляют собой продолжение основной линии хайдеггеровского философствования, однако помещенной в гуманитарный контекст, где не только были полностью цензурированы и самоцензурированы темы второго периода (внешний фактор), но и крах национал-социализма потребовал ревизии определенных метафизических экспектаций мыслителя, чего нельзя было проделать открыто и прозрачно, а может быть, нельзя было проделать вообще(7).
Вместе с тем все три периода составляют единое целое хайдеггеровской философии, которое нельзя расчленить без ущерба для понимания каждого элемента. При этом разбирать это целое можно, на наш взгляд, в любой последовательности, но обязательно с включением всех трех периодов. Более того, наиболее верным подходом, на наш взгляд, было бы начинать со второго периода (Ereignis), как прямое и емкое изложение акме этой философии, потом переходить ко второму, и только после этого переходить к «Sein und Zeit» и «Dasein», с чего обычно все начинают. Во втором периоде содержатся ключи к хайдеггеровской мысли. Если мы искусственно выносим этот период за скобки, мы е сможем понять ни интенций «Sein und Zeit», ни основного вектора последнего периода. В таком случае, первый период предстанет перед нами как своеобразное развитие феноменологического подхода (в духе оригинально понятого гуссерлианства), а третий период станет безобидной версией европейского гуманизма, своеобразной герменевтики европейской культуры и пессимистических интуиций технологической и экологической катастрофы. Но это совсем не Хайдеггер.
Вполне понятно, по каким причинам, всем известен именно такой Хайдеггер. Философы, плененные его мыслью, пытались ввести его в контекст мировой философии вопреки его политическим позициям. Наверное, это было оправдано, так как сохранить грандиозные идеи этого в западно-европейской культуре было само по себе настолько важным предприятием, что ради него моно было пойти на многое. Но вместе с тем, такое редуцированное сохранение хайдеггеровского наследия привело к тому, что мы чаще всего имеем дело с симулякром его мысли, а не с ней самой. Ссылаясь на Хайдеггера без учета идеи Dereignis, мы делаем отсылку к весьма грубой аппроксимации, если не сказать к карикатуре.
Поэтому в нашем лекционном цикле мы предпочли начать с Хайдеггера среднего периода, затем в разделе Geviert, описать общие силовые линии позднего Хайдеггера, и только сейчас подошли к тому, с чего принято начинать – к проблематике Dasein и к его главной работе, где эта проблематика формулируется – к «Sein und Zeit».
Эту книгу надо читать только по-немецки, и для того, чтобы познакомиться с ней вполне можно выучить этот язык. Адекватных русских переводов Хайдеггера не существует, поэтому для первого поколения интересующихся Хайдеггером русских философов необходимо изучить язык, на котором написаны его работы. Лишь в будущем, после появления адекватных комментированных переводов, можно говорить о следующих шагах. Первая попытка работы с Хайдеггером в 70-е годы ХХ века в СССР была полностью провалена. Винить советских философов энтузиастов за это не стоит, в той интеллектуальной атмосфере вообще ничего невозможно было понять в философии, не то что и сложного самого о себе Хайдеггера. С середины 60-х годов и по сегодняшнее время в России длится пустое с философской точки зрения время. Много чего случается, но ничего не происходит.
Вопреки всему надо готовить новый виток русской философии, и начинать надо в этом вопросе с корректного понимания западной мысли. А западная мысль в своем высшем воплощении – это философия Мартина Хайдеггера.
Часть 2. Dasein и история философии (от первого Начала к концу философии)
Dasein как озарение и как вывод из историко-философского анализа
Экзистенциальная аналитика Dasein, по Хайдеггеру, формулируется следующим образом: «Wie ist Dasein?». «Как есть Dasein?». Важно: не «что есть Dasein», а как?
Поэтому и мы должны, скорее, описывать его, нежели определять, скорее приглашать к мысли о нем, нежели однозначно постулировать его значение.
Выражение «Dasein» является фундаментальнейшим для всей истории философии. Формально оно означает «бытие», «существование», наличие в мире. До Хайдеггера понятие «Dasein» не было философским, не было осмыслено как нечто особое и центральное. Конечно, говоря о мировом бытии, о пространстве, понятие Dasein прикладывали к объекту, а говоря о наличии вещей, — к субъекту. Однако ключевым и фундаментальным термином это понятие до Хайдеггера не являлось.
Едва ли Dasein можно вывести из философского или культурологического контекста. Видимо, Хайдеггер пережил озарение Dasein'ом. Dasein открылся ему языковая, мыслительная и эмпирическая реальность.
Истоком появления мысли о Dasein'е следует полагать некий фундаментальный взрыв интеллектуальный, а точнее имплозию, взрыв, обращенный внутрь. Поэтому мы говорим именно об «опыте Dasein».
Dasein это не категория (мы чуть позже рассмотрим, чем отличается категория от экзистенциала). Dasein — это своего рода фундаментальное начало, а в каком-то смысле, может быть, даже и конец всей философии. Вопросу о том, что такое Dasein, посвящена главная книга Хайдеггера «Sein und Zeit».
Если мы приблизимся к опыту Dasein, — хотя бы и отдаленно, — если нам удастся осуществить встречу с Dasein, если нам выпадет доля пережить Dasein, тогда изменится абсолютно всё. Dasein – это то, что переворачивает все. Опыт Dasein делает наше бытие в мире до этого опыта подобным человеку с серьезным дефектом зрения – он видит все расплывчато и смутно, не различает, но угадывает предметы. Лишь Dasein возвращает все в фокус, и мы впервые начинаем ясно различать и то, что вокруг нас, и то, каковы мы сами, и то, за что мы принимали те или иные пятна ранее, до этого опыта. Однако, сравнение со зрением ограничено только одним органом чувств. Чтобы представить себе, что такое Dasein надо спроецировать ту же ситуацию на слух, тактильные ощущения, вкус и т.д. Более того, аналогичные изменения происходят с сознанием и психикой. Встречаясь с Dasein, мы выходим из ментальной комы, их психического помутнения чувств. Мы просыпаемся.
Сам Хайдеггер как Хайдеггер может открыться нам лишь в опыте нашего озарения Dasein'ом. Этот опыт, это слово снизошли на него, как нисходит благодать, как наитие. Хайдеггеру Dasein явился. Конечно, можно сказать, что этому предшествовал огромный философский труд, этимологические штудии, изучение культуры и истории, но все это свойственно и многим другим европейским интеллектуалам. Хайдеггер не был бы Хайдеггером, если бы не нащупал самый нерв Dasein. Поэтому и мы попытаемся понять и пережить (что гораздо важнее) Dasein. Если нам это удастся, мы попадем внутрь философии. Если нет, будем обречены слоняться по ее периферии.
Концептуальные предпосылки возникновения Dasein
Если подходить к Dasein с внешней стороны, дедуктивно и описательно можно сказать, что он представляет собой то, что осталось безусловным после колоссальной критической работы западноевропейской философской мысли в ходе всей ее истории. Это – последний остаток и одновременно резюме, то, что осталось в ходе развертывания западноевропейской философии, осмысленной как систематизированное разрушение собственных онтологических оснований. Сам Хайдеггер описывал этот процесс как дезонтологизацию или забвение вопроса о бытии. Всё, что осталось от колоссального ничтоженья, названного у Ницше европейским нигилизмом, от тотальной редукции к ничто, от сомнения, постановки под вопрос, а потом и очищения от остаточных онтологических элементов — это Dasein.
Если подходить к Dasein с внутренней стороны, это – озарение, потрясение, прямое столкновение с наличием еще до того, как проясняется что это за «наличие», «кто» с ним сталкивается, и «где» это происходит.
Оба подхода должны быть применены одновременно. С одной стороны, осознание фундаментального процесса западно-европейской философии как абсолютизации нигилизма («пустыня растет, горе тому, кто несет в себе пустыню» Ницше) приводит нас к столкновение с ничто (так мы очерчиваем внешние границы Dasein как явления), а с другой, отряхиваясь от банальных клише, мыслей и чувств мы прорываемся к чистому опыту, предшествующему любым интерпретациям (так происходит при сильном чувстве – дикой любви, смертной тоски, темного ужаса, указывает Хайдеггер), и попадаем внутрь Dasein. Философия дает нам возможность думать о Dasein, опыт ужаса – пребывать в Dasein.
Хайдеггер говорит: «Мы не можем понять Dasein через что-то еще, Dasein надо понимать через Dasein». И дальше он показывает в своей книге «Sein und Zeit», как это происходит.
Историко-философские пролегомены к философии Хайдеггера
Для того, чтобы проследить, каким образом концепция и феноменология Dasein складываются, с точки зрения развития западноевропейской философской мысли, надо сделать краткий экскурс в историю.
Досократики
По Хайдеггеру, истоки онтологического нигилизма западно-европейской философии Нового времени следует искать в истоках этой философии, в «первом Начале» (die erste Anfang). Хайдеггер считает, что именно в истоках философии заложена та – бесконечно-малая на первых порах – онтологическая погрешность, которая позже разрастется до гигантских пропорций и станет основным содержанием философии.
Эта погрешность состоит в
· понимании окружающего мира как «природы» (fusiz), то есть этимологически «всходов» (das Aufgehen),
· дальнейшем осмысление ее как «сущего» (to on, das Seiende) и
· формировании представления о бытии (einai) как об обобщающем свойстве всего сущего (das Seindheit des Seienden) – такое «бытие» Хайдеггер пишет через i (Sein) в отличие от фундаменталь-онтологического бытия (Seyn).
Так как бытие мыслится как обобщение сущего и обосновывается применительно к fusiz, постепенно складывается парменидовская дуальность: «бытие есть, небытия нет». В этой формуле все предельно корректно, но что-то тем не менее упущено. Фундаменталь-онтологическое бытие шире, чем обобщающее свойство сущего (то есть Sein als Seiendheit des Seinden), и требует взгляда направленного несколько иначе, нежели прямо на fusiz. Конечно, бытие есть то общее, что присуще всему сущему. Но не только. Забыв об этом «не только», вначале мы остаемся в полноте корректного философского процесса. Но со временем это забвение даст о себе знать. Погрешность в самом настрое досократической философии еще минимальна, но она уже несет в себе нечто фатальное.
Платон
В полной мере это проявляется в Платоне(8). Здесь онтология, построенная ранее на fusiz, и на понимании бытия как общего для всего сущего, достигает своей кристаллизации в учении об идеях. Идея – это такое сущее, которое мыслится как образец для всего остального сущего. По Хайдеггеру, это «конец первого Начала». Сущее в виде идеи, как высшего сущего, окончательно затмило собой бытие. То, что было на ранних порах небольшим упущением («не только»), в платонизме выносится за скобки. Онтологическая проблематика закрепляется в исследовании иерархии сущего (от вещи до идеи), и месту бытию в чистом виде не остается.
Сущее подменило собой бытие (Seyn), и следовательно, упущенное из виду «не только» (то есть изначальный крохотный зазор между бытием и общим свойство сущего) начинает давать о себе знать, конституируясь в ничто, то есть в движущую силу отрицания бытия сущего, коль скоро оно оказалось вне внимания онтологии.
Схоластика
Хайдеггер вслед за Ницше считает, что, с философской точки зрения, «христианство – это платонизм для масс». Это значит, структура христианской (католической) теологии полностью воспроизводит платоновскую онтологию, где мерой бытия является соответствие вещи ее архетипу, идее, как высшему сущему. При этом данная онтологическая позиция еще больше закрепляется богословской концепцией творения. Статус вещи как ens creatum определяется ее местом в иерархии тварей. Идея Платона как высшее сущее, заменяется здесь Богом.
По Хайдеггеру, схоластика не привносит в философию ничего нового, она лишь банализирует платонизм, переводя иерархию идей в иерархию сотворенных вещей(9).
Схоластика формулирует такой онтологический треугольник, который достается в наследство философии Нового времени.
Онтологический треугольник
Представим, что перед нами лежит треугольник, вершиной которого является Бог, или трансцендентность.
Согласно Августину и схоластам, бытие Бога является абсолютным бытием. Иначе говоря, в верхней точке треугольника вопрос о бытии решается так: Бог есть абсолютное Бытие.
В основании треугольника есть две вершины, на одной из них находится субъект, на другой — объект. Оба онтологически осмысляются в христианской схоластике как созданные сущие, ens creatum. Соответственно, абсолютное бытие создает неабсолютное бытие.
Неабсолютное бытие создано, сотворено и в этом проявляется его бытие. Оно содержит в себе человеческую душу, являющуюся субстанциально сущей (это очень важный момент), и вещи внешнего мира, также являющиеся субстанциально сущими. Разница состоит лишь в том, что первая является сущим как субъект (наше “я”, человеческая душа), а вторые — как объект. Но все они черпают свое бытие из абсолютного бытия Бога.
![]() Бог (абсолютное бытие)
Бог (абсолютное бытие)
 |
Человек (субъект, Вещи мира (объект,
неабсолютное бытие) (неабсолютное бытие)
Онтологический треугольник теизма
Есть Бог, и Он есть абсолютно, есть субъект, и он есть неабсолютно, есть объект, и он тоже есть неабсолютно.
В этой схеме достаточно заменить Бога на идею, и мы получаем онтологическую модель философии Платона. Именно это позволило платонизму войти в христианское богословие (в первую очередь, у восточных отцов).
Онтологические трансформации в философии Нового времени. Рациональная онтология субъекта у Декарта
Новое время в философии деизма (Декарт, Ньютон) существенно реорганизует онтологические пропорции в этом треугольнике. Д ля схоластики (теизм) бытие Бога не требует доказательств («верю ибо абсурдно», Тертуллиана) и основывается на вере. После такого онтологического утверждения легко перейти к бытию двух полюсов творения – субъекту и объекту. Их бытие будет в таком случае обосновано бытием Бога, который приводит тварь к бытию.
Но именно по вере наносит удар рационализм философии Нового времени, призывая вместе с Декартом «сомневаться во всем». Единственное, что представляется Декарту не подлежащим сомнению, это cogito, из которого он заключает бытие субъекта. Субъект, в свою очередь, на основании органов чувств фиксирует бытие объекта (res extensa), а на основании умозаключений о причине собственного бытия приходит к доказательству бытия Бога.
Бог как причина (causa) бытия субъекта
 |
Субъект (res cogitans) Объект (res extensa)
Онтологический треугольник рационалистического деизма
Бытие Бога становится производным от бытия субъекта, которое обосновывается эмпирическим фактом мышления. Таким образом, вся картина онтологического треугольника меняется. Диспозитив бытия обнаруживается в мыслящем человеческом субъекте, который – как две вторичные операции – обосновывает с помощью рациональных операций бытие двух других вершин треугольника – Бога и объекта.
Эта онтология деизма, в которой бытие трех вершин доказывается на основании cogito, ложится в основание философии Нового времени.
По Хайдеггеру, это важнейший пункт в истории философии. От трансцендентной платоновской иди и от схоластической теологии с Богом во главе онтологической триады мы переходим к дуальной картине субъект – объект, где бытие начинает выступать как результат рациональной деятельности субъекта. Тем самым das Seiende, сущее сводится к упрощенной паре субъект-объект и онтология приобретает характер сугубо рациональной конвенции.
Эмпирическая онтология
В XVII веке в английской школе у Ньютона и Френсиса Бэкона стала складываться другая гносеологическая модель. Если у Декарта онтологическим аргументом было мышление и главным элементом онтологии становится субъект, то в английской ветви современной философии, следующей тем же самым путем постановки под вопрос средневековой онтологической картины, таким аргументом является внешний мир, объект. Это классическая эмпирическая школа, основанная на индукции, эксперименте, опыте.
Бог-часовщик, причина (causa) объекта

Субъект Объект, данный в очевидности опыта
Онтологический треугольник эмпирического деизма
Безусловным бытием признается то, что фиксируется органами чувств. Объект есть, и это главное эмпирическое утверждение, без которого нельзя строить никакой науки и философии. Но у объекта (мира) должна быть причина. И этой причиной, видимо, является Бог. В эмпирических версиях деизма Бог тоже постулируется как необходимая причина наличествующего бытия, но на сей раз не со стороны субъекта, а со стороны объекта.
Когда мы произносим слово «реально», «реальность», мы имеем в виду «вещно», «вещность». Res по-латински «вещь». В эмпирической философии вещь – это объект и она есть как объект. Отсюда «объективность» как синоним реальности. Реальность изначально была предикатом эмпирической версии деизма и в его контексте имела значение онтологического аргумента.
Монада Лейбница
На заре Нового времени оригинальную трактовку онтологической проблематики предлагает философ Лейбниц. Его задача обосновать «Теодицею», доказательство бытия Божьего. Он это делает также на основании разума, как и другие философы Нового времени, но его онтология строится по иной схеме.
Лейбниц представляет мир как иерархию монад, которые иерархически распределяют бытие по различным соподчиненным группам. В монаде субъект совпадает с объектом.
Первомонада - Бог
![]()
![]()
![]() Высшие монады
Высшие монады
(разумные)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Средние монады
Средние монады
(память, ощущения)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Низшие монады
Низшие монады
(смутные, голые)
Схема монад по Лейбницу
Феномены пространства и материи, по Лейбницу, появляются из-за оптических иллюзий, свойственным низшим монадам, которые, являясь смутными и туманными, порождают видимость пространственного различия и временной последовательности. Разделение на субъекта и объекта происходит также в силу иллюзии. Бытием обладает не субъект и не объект, но только монада, причем качество этого бытия возрастает по мере движения к первомонаде и падает по мере спуска вниз.
Можно считать это своеобразной попыткой вернуться к платонической и неоплатонической картине мира после долгих веков креационистской схоластики и в условиях выработки новой онтологической парадигмы философии Нового времени.
Критика учения Лейбница о монадах составляет важнейший пункт философии Хайдеггера(10). Описывая аспекты Dasein, Хайдеггер предупреждает, что любые параллели с монадологией Лейбница ошибочны, так как в его философии бытие помещается в Первомонаде, то есть в высшее из сущих, но все же сущее.
Онтологическое сомнение Канта
Широкий онтологический разброс теорий философии Нового времени показывает нарастающую неуверенность относительно того, что же выбрать за безусловную точку бытия? Неудовлетворительность схоластических креационистских рецептов теизма заставляет философов предлагать новые версии онтологий – субъектные (картезианство), объектные (эмпиризм), монадические. Множественность онтологических гипотез приводит к обобщению накопившихся сложностей в онтологической проблематики через философию Канта(11). Это важнейший пункт в развитии западно-европейской философии.
Кант находится под влиянием идей Декарта, Лейбница, Ньютона, но сосредотачивает свое внимание на разработки теории познания -- «Критика чистого разума». В онтологическом смысле это было совершенно революционным произведением, где Кант убедительно показывает, что все предлагаемые версии онтологии (субъекта, объекта или Бога, включая монаду) не могут быть строго доказаны с опорой на чистый разум. Так появляется идея ноумена, некоей инстанции, бытие которой разум не способен ни доказать, ни опровергнуть. Кант не отрицает бытия субъекта, объекта или Бога, он просто показывает, что это бытие относится к сфере ноумена, в которой разум не может делать никаких твердых заключений.
Онтологический треугольник в философии Канта приобретает следующий вид.
![]()
![]()
 Бог (как ноумен)
Бог (как ноумен)
Чистый
Разум
Субъект (как ноумен) Объект (как ноумен)
![]() Онтологический треугольник с позиции чистого разума у Канта
Онтологический треугольник с позиции чистого разума у Канта
У Канта есть онтология cogito, из которой, однако, не следует декартовского ergo sum. Мыслю, следовательно, мыслю. Это заключить можно, но то, что из этого вытекает «есть», никак не следует. Чистый разум имеет свою структуру, организует восприятие (апперцепцию) и упорядочивает мыслительные процессы, действует так, как если бы существовал субъект («я»), объект (внешний мир) и Бог. Но при этом онтологической аргументации, которая могла бы устранить это «как если бы» и перевести все это в строгую уверенность, в самом чистом разуме нет.
Перед лицом такой уже чисто нигилистической картины Кант вынужден сделать шаг назад и обосновать-таки онтологию. Но эта онтология носит у него характер не фундаментальных заключений чистого разума, но моральных пожеланий разума практического. Откуда появляется тема категорического императива. Чистый разум не способен доказать бытия ни субъекта, ни объекта, ни Бога. Но практический разум в моральном выборе утверждает, что они должны все же существовать, было бы хорошо, чтобы они существовали. Онтология, с одной стороны, вроде бы возвращается, но на самом деле, деле онтологический нигилизм только прогрессирует. Теперь уже бытие доказывается ни опытом, ни разумом, не Откровением, а моральными соображениями. Хорошо бы было, чтобы бытие было.
Бог как категорический императив
Практический

 Разум
Разум
Субъект как категорический Объект как категорический
Императив императив
Онтологический треугольник с позиции практического разума у Канта
Идея «Критики практического разума», однако, не залечивает травму, нанесенную философской онтологии «Критикой чистого разума», но лишь усугубляет ее. Морально обоснованная онтология еще менее основательна, нежели рационально или эмпирически.
Ничто растет.
Фихте и Гегель: преодоления кантианского пессимизма
Конечно, последователи Канта попытались справиться с этим вызовом. Фихте, ученик Канта, в ответ на то, что Кант оставил мир без субъекта, решил, что субъект все-таки есть, и развивая эту идею, добавил: субъект — это единственное, что есть(12).
Гегель тоже почувствовал: дела обстоят неладно. Он предпринял колоссальные усилия, дабы показать, что бытие и мысль совпадают. Для этого ему пришлось выстроить новую логическую систему, существенно корректирующую традиционную логику Аристотеля, которой руководствовался в «Критике чистого разума» Кант. Так возникла «Большая Логика». В ней Гегель развивает философскую диалектику, где опровергается второй логический закон -- закон исключенного третьего, на что Хайдеггер обращает пристальное внимание. Постановку проблемы ничто, отрицания, негатива у Гегеля Хайдеггер считает корректной, но вместе с тем показывает, что Гегель остается в русле классической философии(13), продолжает оперировать концептами и признавать референциальную теорию истины. Он пытается ответить на вызов дезонтологизации, вскрытый Кантом, и продвигается в этом направлении дальше других мыслителей. Но объективным пределом здесь является сам строй западно-европейской философии, где онтологическая проблема формулируется некорректно в самом ее основании, а в метафизике Нового времени – и в частности, у Канта – лишь обнаруживает свои последние следствия.
Ницше – конец философии
Ницше для Хайдеггера является главным философом современности. Он оказал на Хайдеггера самое большое и решающее влияние. Хайдеггер посвятил Ницше множество текстов(14), часть из них сгруппирована в двухтомник «Ницше».
Для подхода к теме Dasein у Ницше центральны следующие философские моменты:
· констатация западной философии Нового времени как нигилизма,
· утверждение в искусственности культурных и метафизических установок как продуктов отчуждения от жизни,
· критика Платона и референциальной теории истины,
· обращение к досократикам в поисках истоков западно-европейского мышления в его чистом, еще не «искаженном» учениями об идеях виде,
· выделение воли к власти как основного жизненного мотива,
· ниспровержение идолов и ценностей Запада и
· призыв к поиску радикально новых путей мышления.
Для Хайдеггера Ницше является фигурой, которая ставит последнюю точку в процессе развития и становления западной философии. Если Платон был «концом в рамках первого Начала», то Ницше – это просто конец философии как таковой. Он -- последний философ.
Ницше больше не верит ни в объект, ни в субъект. О «смерти Бога» он провозглашает открыто и максимально убедительно. Находясь в центре европейского нигилизма, Ницше обращается к стихии жизни. Эту стихию Хайдеггер трактует как бытие. А то, что оказывается в период максимального расцвета нигилизма в роли сталкивающегося с ним, и есть прямой подход к Dasein.
Гуссерль
С другой стороны, параллельно Ницше, из последовательно и фундаментально осмысленного кантианства родилось такое явление, как феноменология Эдмунда Гуссерля. Гуссерль был настоящим последовательным кантианцем, и он сделал из кантианства те выводы, которые надо было сделать. Хотя Гуссерля и Канта разделяет больше ста лет, именно он подвел к логическому концу те темы, которые напрямую вытекали из «Критики чистого разума».
Феноменология Гуссерля основана на следующих операциях:
· вынесение за скобки (эпохе) существования объекта, субъекта и Бога (принцип феноменологической редукции),
· сосредоточение философского внимания на структуре человеческого сознания в той форме, в какой оно конституирует объекты своего функционирования (ноэмы) через интеллектуальные операции (ноэсис),
· введение понятия интенциональности, как основной модели соотношения сознания с рассматриваемым объектом (что в определенной мере конституирует этот объект),
· исследование феноменологического потока сознания в ходе наблюдений за поведением человека в среде «жизненного мира» (Lebenswelt).
Философия Гуссерля имеет много разных аспектов и может быть проинтерпретирована по-разному. Для Хайдеггера, бывшего учеником Гуссерля, важнее всего в феноменологии является стремление к выявлению наиболее чистой инстанции, которая остается на месте мыслящего человека после последовательного осуществления операции «эпохе» применительно к основным философским концепциям (субъект, объект, «я», сущность, время и т.д.). По сути Гуссерль идет путем нигилизма, описанного Ницше, и находясь на этом пути, пытается обосновать и корректно описать ту инстанцию, которая остается после отслоения всех метафизических напластований – включая позитивизм, материализм и эмпиризм, которые, по мнению Хайдеггера, суть не что иное как частные случаи все той же западной метафизики.
Феноменология со своей стороны исподволь подготовила для Хайдеггера подход к Dasein. В некотором смысле Хайдеггера можно назвать "феноменологом", а сам Dasein – феноменологическим явлением.
В то же время для Хайдеггера понятие «феномен» имеет особое значение. Он сопрягает его со значением греческого корня öáίíåóôáé , что означает «являть себя», «проявлять себя», «обнаруживать», а также с другим важнейшим для Хайдеггера греческим термином aleteia, истина. Он толкует «истину»-«алетею» как «несокрытость» и сплошь и рядом передает этот греческий (досократический) термин немецким словом die Unverborgenheit, дословно «несокрытость». Истину как несокрытость (бытия) Хайдеггер противопоставляет истине как соответствию одного сущего другому сущему. Поэтому феноменология у Хайдеггера оказывается в центре онтологической проблематики, тогда как сам Гуссерль к онтологической проблематике безразличен и стремится выстроить непротиворечивую философию науки.
Таким образом, Хайдеггер, формально повторяя ряд классических операций феноменологии, осуществляет вместе с тем нечто совершенно иное, так как его философия и его история философии прочно фиксированы на оси вопроса о бытии. Хайдеггер различает «ведущий вопрос философии» (Leitfrage) и «основной вопрос философии» (Grundfrage). Первый относится к сущему (Sein der Seiendheit), второй -- к бытию (Seyn). Феноменология Хайдеггера с самого начала помещена в контекст решения «основного вопроса философии». Это феноменологическая онтология, тогда как у Гуссерля мысль остается в целом в рамках гносеологии и теории познания.
Часть 3. Dasein и его экзистенциалы
Введение Dasein
Если подходить к Dasein со стороны истории философии, то можно сказать, что это – последняя точка, которая фиксируется в период завершения процесса дезонтологизации, в полночи вселенского нигилизма. Досократики приравняли бытие (Seyn) к природе, сущему, всеобщему, и утратили какую-то малозаметную вначале, но существенную его сторону. Платон отождествил бытие с одним из сущего (идеей). Схоласты еще больше удалились от бытия, утвердив теологическую иерархию тварных вещей. Деисты усомнились в догмах веры и стали обосновывать бытие на основании своих искусственных концептов – будь-то рационализм Декарта, эмпиризм Локка и Юма или монадология Лейбница. Кант честно признает, что рационального обоснования у онтологического аргумента нет. Попытки Фихте и Гегеля снять проблему отсылает нас лишь к частичному концептуальному исправлению ситуации, не затрагивающему сути нигилистической катастрофы. Ницше называет вещи своими именами и требует отныне мыслить трезво и жестко в терминах богооставленного мира. Гуссерль вводит феноменологический метод для мышления в условиях краха европейской метафизики. То, что осталось в такой ситуации от бытия, на каждом этапе все более и более удалявшегося от магистрального процесса философствования, стянулось к Dasein. Dasein – это последний факт бытия, предшествующий каким-либо обоснованиям, не имеющим никакой адекватной интерпретации, помещенный в нигилистическую пустыню.
Dasein вместе с тем есть, безусловно, феноменологическое наличие. То есть это феноменологическая точка бытия, сопряжение историко-философской оптики дезонтологизации, сконцентрированной на «основном вопросе философии», с прямой феноменологией наличия. Эта феноменология наличия имеет свои свойства. Выяснению этих свойств, то есть аналитическому описанию Dasein и посвящена в основном вся книга «Sein und Zeit».
Da и Sein
Dasein иногда переводят на русский язык как «здесь-бытие». Действительно, немецкое слово «Dasein» складывается из двух частей. «Da» — это «здесь», a «Sein» — «бытие».
То бытие, которое упоминается в Dasein, это безусловное наличие, явленное наличие, то есть некий безусловный феноменологический факт. Хайдеггер отнюдь не настаивает на введении метафизических соответствий между Dasein и Sein (и теме более, Seyn). Это соответствие должно венчать собой весь корпус хайдеггеровской философии, это конец пути. Тем не менее, с самого начала чрезвычайно важно, что в Dasein мы имеем дело с «бытием», пусть и не обоснованным пока метафизически. Хайдеггер применяет к этому термин «онтический», от греческого on, сущее. Dasein относится к сущему, оно есть сущее, но вместе с тем, оно есть не просто сущее, как все остальное сущее, это какое-то особое сущее. Феноменология Dasein на первом этапе философии Хайдеггера может быть взята как онтическая (но пока не онтологическая, так как о логосе в такой констатации пока речи не идет).
Второй корень в слове Dasein – это «da», «здесь». Это «da» указывает, что бытие находится «здесь» (а не где-то еще), что речь идет о чем-то фактическом и наличествующем, о присутствующем конкретно и ощутимо. Поэтому Dasein можно воспринять как конкретный сгусток бытия, бытия в онтическом, почти эмпирическом смысле. Dasein можно пережить, если вжиться в фактичность бытия того, что находится – в максимально возможном отрыве от того, что здесь, кто здесь, где здесь, почему здесь и т.д.
Вместе с тем перевод немецкого «da» русским «здесь» довольно некорректен. Сам Хайдеггер упоминает в одном месте в «Sein und Zeit» гипотезу Вильгельма фон Гумбольдта(14-1) относительно происхождения личных местоимений из наречий места. Гумбольдт предлагает следующую версию: от «hier» («здесь») происходит «ich» («я»), от «dort» («там») происходит «er» («он»), а от «da» («тут», «где-то здесь», «недалеко», между «здесь» и «там») происходит «du». В немецком языке система наречий места имеет тройную структуру, а не двойную, как в современном русском языке. «Hier» — это конкретно «здесь», «dort» — это конкретно «там», «da» — это между ними.
Вот-бытие
Можно привлечь русское указательное местоимение «вот». «Вот» означает не «здесь» и не «там», но где-то конкретно, недалеко, куда можно указать. «Da» можно перевести как «здесь», но можно и как «вот». Поэтому, для пояснения значения этого фундаментального термина точнее использовать «вот-бытие». Гумбольтовское соответствие важное: «бытие», которое находится «вот», это человек, который находится близко (а не далеко, не «там»), но вместе с тем, это не «я», но и не «не-я». В каком-то смысле это «ты», поскольку в опыте Dasein происходит разотождествление с «я». В Dasein «я» схватывается как «ты», но «ты», в котором нет субъектности, но есть простое наличие.
«Здесь» и «там» — это четкое разделение дистанции, а в «вот» еще нет дистанции, «вот» дистанции предшествует. «Вот» — это то, на что мы указали, что мы зафиксировали своим вниманием. «Здесь» и «там» появляется только после того, как было отмечено «вот».
La realite humaine
Анри Корбен(15) переводит на французский Dasein сочетанием «человеческая реальность» (realite humaine). Оба термина, строго говоря, никуда не годятся. Хайдеггер, между прочим, на протяжении всей своей книги говорит, что речь идет не о человеческом и не о реальном, не о субъекте и не об объекте, и уж тем более не о Боге. «Не субъект, не объект, не человеческое, не реальность и не божественное» — было бы гораздо более точным дескриптором понятия Dasein, чем это «realite humaine».
Однако такой перевод все-таки проливает свет на смысл Dasein. В какой-то особой оптике (а Анри Корбен -- крупнейший знаток исламского эзотеризма, сакральной антропологии и мистической философии) Dasein можно понять как «человеческую реальность» в ее чистом виде – до человека и до реальности -- как структурированную качественную инстанцию, развертывающую свои автономные свойства, в ходе чего возникают и «человек» (субъект) и «реальность» (объект, мир). В этом смысле следует учесть теории самого Корбена о mundus imaginalis, о «световом человеке» и о «пурпурном архангеле» (Сохраварди)(16), а также теорию imaginaire и антропологического траекта Жильбера Дюрана(17). Но это мы оставим как замечание на полях.
Опыт Dasein как явление языка и как взрыв
Вводя Dasein, Хайдеггер следует не столько за логикой философского дискурса (где онтология требует логических обоснований, которых представить не может, что порождает порочный круг и бесконечность нигилизма), сколько за языком, который – вопреки всем аккордом дезонтологизации – как ни в чем не бывало оперирует с таким понятием как Dasein. Вот-бытие. Вот бытие. Бытие — вот. Фиксация внимания на значении этих слов не вводит нас в философию, но вводит нас в язык. Слова «вот» и «бытие» что-то силятся выразить, что-то чрезвычайно важное, но вместе с тем ускользающее, неточное, невнятное. Тут Хайдеггер и предлагает осуществить прыжок, довериться словам, а не концепциям, звукам и угадываемым смыслам, а не жесткому философскому дискурсу. Философские знания и навязчивый интерес к онтологической проблематике, естественно, сказываются в выборе словесного объекта для осмысления, но само осмысление на стартовом этапе отсутствует. Dasein является сразу и мгновенно, со всеми заключенными в нем содержаниями. Это феномен как явление. Но вместе с тем это зов сам ого языка.
Опыт Dasein принадлежит к предфилософии, он предельно наивен, он связан с языком напрямую и неопосредовано, ненаучно. (Возможно, в этом сказались уроки Ницше - «Мы, филологи»(18) -- и Гуссерля – «жизненный мир»). По сути, Хайдеггер строит философию заново. И первым звуком, первым шагом, первым утверждением этой философии (позже он сам осмыслит это как «новое Начало» (die neue Anfang) является Dasein.
Предельно критичный и сверхвнимательный к терминам, концептам, значениям слов, постоянно помещающий их в изначальный контекст и старающийся точно установить корректное историко-философское содержание (включая нюансы переводов и этимологии), Хайдеггер предлагает сделать – пусть одно единственное -- исключение и «поверить» значению слова Dasein. Оно фиксирует именно «бытие» и не где-то, а «вот», «вот» «здесь».
Dasein – это первая, главная и, по сути, единственная аксиома хайдеггеровской философии. Поняв ее, все остальное встанет на место и будет довольно понятным. Но в том-то и трудность, что ее корректное понимание невозможно без фундаментальной онтологической компетенции и вместе с тем без прямого опыта столкновения с бытием в фактической конкретике «вот».
Dasein -- это внезапное и взрывное обнаружение бытия вот. И этим взрывом конституируется само «вот», а также то, что обнаруживает себя. При этом чистота опыта обеспечивается только тем, что он проходит в условиях тотального нигилизма как закономерного и логического завершения становления всего процесса западно-европейской философии. Во всех других ситуациях и контекстах это явление было бы невозможным и подлежало бы совершенно иной, скорее всего, довольно банальной интерпретации.
Чтобы бытие смогло обнаружить себя взрывным и непосредственным образом вот, его необходимо было полностью и окончательно забыть предварительно. Иначе не было ни взрыва, ни единичности, ни со-бытийности такого обнаружения. Поэтому условием появлением Dasein и философии, основанной на Dasein как на своем центре, является прохождение философией всех ее стадий – от досократиков до Ницше. Чтобы появился Dasein, философия должна была начаться, расцвести, достичь апогея, пойти на спад и трагически завершиться. Только после этого – и в значительной степени, вследствие этого – может открыться вот-бытие так, как оно открылось Хайдеггеру.
От эссенции к экзистенции
Сам Хайдеггер подчеркивает, что корректный подход к Dasein и его обнаружению возможен отнюдь не путем возврата к тому онтологическому треугольнику, который мы безвозвратно утеряли (и в таковой утрате был фундаментальный смысл — говорит Хайдеггер), но путем мужественной фиксации стихии победившего нигилизма. Dasein это то, что фиксирует нигилизм, не совпадает с ним (потому и фиксирует), но не снимает с себя ответственности за его появление; более того, хочет дойти путь этой ответственности до конца.
Отталкиваясь от Dasein, Хайдеггер предлагает фундаментально изменить философский настрой. На протяжение всей своей истории западная философская мысль исходила из определяющей мысли о эссенции, сущности, ousia. Эссенция понималась либо как Бог, либо как идея, либо как субъект, либо как объект, либо как монада и т.д.
Хайдеггер считает, что эссенциальный подход выражает ту саму погрешность, которая и привела весь философский процесс от «первого Начала» (досократики) к концу философии (Ницше). Начиная с эссенции как с «общего» (koinon), присущего Seiende (ens) как Seiendheit (essentia), философия обречена на вечное повторение одного и того же метафизического маршрута, приводящего мысль рано или поздно к отчуждению, прагматизму, позитивизму, а значит, к нигилизму. Попытка выстроить онтологию на базе эссенции ведет к дезонтологизации.
Вместо этого предлагается начать философствовать от Dasein, воспринятого как экзистенция, а не эссенция, как нечто безусловно наличествующего, но в онтическом, а не в онтологическом смысле. «Сущность (Wesen) Dasein, повторяет Хайдеггер в «Sein und Zeit», в экзистенции». Здесь может возникнуть недоумение: призывая мыслить от экзистенции, а не от эссенции (сущности), Хайдеггер сам определяет Dasein (экзистенцию) через сущность (Wesen). Но здесь следует учитывать немецкий контекст оригинала. Das Wesen для Хайдеггера не есть перевод греческого «ousia» или латинского «existentia». Хайдеггер, двигаясь по линии языка, а не по линии философской терминологии, придает самому слову Wesen (страдательное причастие от глагола sein) фундаменталь-онтологическое значение. Wesen – это сопричастность к Seyn, как к бытию, которое только следует осознать в должном качестве, отталкиваясь при этом от осмысления всего философского процесса от первого Начала до конца как неверного онтологического курса. Отсюда такие новообразования хайдеггеровского языка как использование Wesen (отглагольное существительное) как глагола – ich wese, du wesest, er (sie, es) west, wir wesen, ihr weset, sie wesen. Таких форм в немецком языке нет, это другой язык, хайдеггеровский метаязык фундаменталь-онтологии.
Поэтому фразу «сущность Dasein в экзистенции», следует передавать по-русски на корректном метаязыке «Wesen Dasein'а в экзистенции».
Это значит, Dasein есть не по соответствию сущности, как чем-то внешнему или иному, нежели он сам, а сам по себе. Поэтому Wesen не есть эссенция (ousia, сущность), а выражение (открытие, выведение из несокрытости) самобытия Dasein'а. Слово «existentia» и его производные (existential, existentielle) Хайдеггер не переводит на немецкий (хотя он старается перевести на немецкий все – даже субъект превращается у него в немецкое Geworffenheit(19), «заброшенность», что соответствует латинской этимологии – sub (под, вниз) и jacere (бросать)). Тем менее пригодно русское слово «существование» при переводе «экзистенции», так как оно гораздо точнее соответствует немецкому Wesen, а глагол «существовать» и передает то, что Хайдеггер хочет сказать, изобретая несуществующую в немецком форму «wesen» как глагол. Впрочем, и в греческом прямого аналога латинскому existentia не находится, и Хайдеггер в редких случаях пользуется словом outoz ((«тот», «это»), пытаясь найти аналог экзистенции, скорее, опираясь на этимологию немецкого Dasein.
Поэтому аксиоматическая для хайдеггеровской философии фраза «Wesen Dasein'а в экзистенции» является в определенном смысле тройным плеоназмом, а ее германско-латинская этимология призвана перевернуть фундаментальные аксиомы всей философии, где все рассматривалось не из себя, а из другого (fusiz, idea, ousia, qeoz, ego, koinon, essentia, objectum, subjectum, res, realitas и т.д.). Хайдеггер своей плеоназмической формулой закладывает основу нового Начала философии, где отныне предлагается все рассматривать из Dasein, как из фактической и онтической инстанции, которой ничего ни логически, ни хронологически, ни онтологически не предшествует.
Поэтому значительная часть «Sein und Zeit» посвящена апофатическим определениям Dasein. Dasein не эссенция, не субстанция, не сущность, не «я», не субъект, не объект, не мир, не психика, не жизнь, не бытие, не ничто, не небытие, не высшее сущее, не идея, не Бог, не человек, не одно из сущих наряду с другими, не сущее в целом, не всеобщее, не единое. Dasein сопряжен с Wesen и с экзистенции, но это равнозначно тому, что Dasein – это Dasein, и форма его экзистирования есть возможность бытия. Хотя «экс» (ex) в «экзистенции» (в латинском existentia) уже содержится в «da» Dasein, а «Wesen» (существование) в «Sein» (бытие) Dasein'а.
Чтобы пояснить это Хайдеггер повторяет рефреном «Dasein экзистирует фактически». Dasein existiert faktisch. «Фактически» означает онтически, в прямом безусловном конкретном тотально воспринимаемом наличии.
Три онтологических среза
Введение Dasein и начало мышления по-хайдеггеровски подводит нас к новой формулировке онтологической проблематики. Так появляется три онтологических среза. Вопрос о бытии может ставиться:
· онтически,
· онтологически,
· фундаменталь-онтологически.
«Онтически» это значит в прямом и эмпирическом соотнесении с Dasein. В определенном смысле можно уравнять онтическое с феноменологическим, если только подходить к феноменологии не с позиции Гуссерля, а с позиции самого Хайдеггера, то есть как к aleteia, несокрытости бытия в факте присутствия Dasein. В этом смысле можно сказать, что Dasein – феномен, что он дан и дан безусловно, прежде и до всяких обоснований кем, откуда, когда, зачем, что. Данность здесь исключает дающего, принимающего, остается только акт дарения, давания, наличия, повисший над бездной ничто.
Онтическое – это безусловно наличествующее в безусловной данности Dasein'а. Онтическое предшествует какой бы то ни было работе сознания, представления, мышления, даже восприятия. В онтическом нет ни уверенности, ни истины (как соответствия), ни субъектности, ни объектности. Бытие в онтическом выступает в неком почти «варварском» смысле, как факт упругой недифференцированный жизни, включающей в себя смерть, движения, включающего в себя покой, наличия, включающего в себя исчезновение и конечность.
Онтическое это бытие до того, как о нем помыслили, как на нем сфокусировались, бытие до природы, fusiz, до идеи, до объекта и субъекта, до категорий и концепции, до философии, до человека, до «я» и его предикатов.
«Онтологически» это значит осмысление бытия в философском контексте. Онтология включает в себя все оттенки философского осмысления бытия и как fusiz, и как идею, и как реальность, и как всеобщее, и как субъекта, и как объекта, и как предметного мира, и как материи, и как сознания, и как познания, и как разума, и как абсолюта, и как конечности, и как сингулярности, и как единства. Но здесь и находится главная проблема: для Хайдеггера вся онтология, все версии философского постижения, описания и определения бытия в западно-европейской философии от первого Начала до конца проходят в заведомо ложном направлении. У досократиков онтология максимально приближена к онтике, но уже у них закрался нюанс погрешности. Далее эта погрешность растет, пока не достигнет гигантских объемов в философии прагматизма, позитивизма, в понимании бытия как морали, ценности, идеала, мировоззрения, наконец, товара. Учение об идеях Платона, логика и метафизика Аристотеля, креационистская теология, эссенция, идеализм, реализм и номинализм Средневековых споров, концептуальное мышление, монадология, Абсолютная идея, «Наука Логики» Гегеля, ницшеанская воля к власти – все это разновидности неверного мышления, той философии, которая была величественным, грандиозным памятником одной и той же ошибке. Эта ошибка заключалась в игнорировании Dasein как базовой инстанции философствования. Но вместе с тем вся эта работа онтологии как заблуждения готовила почву (Grund) для бездонной (Abgrund) догадки о Dasein.
«Онтологически», по Хайдеггеру, значит, «философски», «неверно», «нигилистически», «платонически», «отчужденно», отвлеченно от онтического с утерей того пульса бытия, который составляет основу онтического.
Между онтическим и онтологическим в учении о Dasein выстраиваются такие пропорции. Онтическое дано до опыта мысли, непосредственно. Дано неизвестно кем и неизвестно кому. Ясно одно, оно дано (оно экзистирует фактически». Dasein онтичен, он и есть онтичность.
Онтология надстроена над Dasein'ом, это онтичность, осмысленная философски. Эта онтология в оптике Dasein'а берется как нечто общее, но не как нечто общее для сущего (чем она хочет быть), а как нечто обще для ошибочного толкования сущего, чем она является с позиции перехода к новому Началу философии, первым шагом чего является Dasein. Онтология – это то, что проистекает из Dasein'а, преодолевает его, всячески превосходит его, возносится над ним, но при этом забывает его, игнорирует его, подменяет его абстрактной схемой. Онтология есть систематизированный нигилизм.
Истоки этого нигилизма состоят в отождествлении бытия и сущего и в приписывании какому-то одному сущему высшего нормативного статуса.
Теперь что такое фундаменталь-онтология. Это переход к новому Началу. Это построение такой онтологии, которая в отличие от просто онтологии созидалась бы в постоянном и тесном контакте с Dasein, не отрываясь от него, поверяя каждый следующий шаг стихией онтического, выражая онтическое позволяя ему говорить о себе самом так, как более всего соответствует ему самому, не навязывая ему никаких отчужденных рамок, категорий и представлений. Для того, чтобы подчеркнуть именно этот смысл фундаменталь-онтологического, Хайдеггер иногда использует выражение онтико-онтологический.
Фундаменталь-онтология отличается от онтического тем, что это процесс мышления, осмысления бытия, что оно восходит от непосредственности Dasein к его опосредованности. Но от онтологии фундаменталь-онтология отличается тем, что восхождение от Dasein остается органически связанным с самим Dasein, что она не делает ошибки всех философских онтологий и не выдвигает никаких дополнительных инстанций (идеи, эссенции, креатора, субъекта, объекта и т.д.) вне Dasein, над ним, вокруг него, под ним или даже в нем. Фундаменталь-онтология это мышление, пребывающее в бытии Dasein'а, в его среде, не порождая дуальностей и отношений, сингулярностей и соответствий, ничего из того, что модно было бы поставить напротив друг друга.
Фундаменталь-онтология – это еще не созданная философия «будущих» (die Kunftige), которые проявятся (как проявляет бытие истина-алетея, как проступают водяные знаки).
Фундаменталь-онтология всегда помнит о различии бытия и сущего, а следовательно, воспринимает Dasein как сущее, с одной стороны, но одновременно, и как возможность бытия (Seyn), что делает Dasein не только сущим, но чем-то еще.
Dasein как бытие-между
Чрезвычайно важно с самого начала подчеркнуть, что Dasein не является ни «внутренним», « ни внешним», так как эти философские и пространственные измерения возникает не до него, а вместе с ним, в нем и через него. Более того, их структуры зависит от того, в каком режиме пребывает Dasein, как он развертывает свое «da» и свое «Sein», на чем ставит акцент. Dasein сам по себе пространствен, и эта Пространственность составляет одной из его свойств, что не позволяет расположить его в том, что является им же самим, одной из его сторон.
Dasein не является, вместе с тем, «ни предшествующим» (началом), ни «последующим» (результатом чего-то, что наличествовало бы «до» него). Dasein не есть функция от времени, время также не имеет автономного бытия, в котором Dasein располагался бы. Отношения Dasein со временем еще более сложны, нежели с пространством, чему посвящен второй раздел «Sein und Zeit».
Но экзистенциальный и фактический характер Dasein'а делает его вполне конкретным присутствием и наличием, а следовательно, он должен обладать определенной локализацией. Этой эмпирической локализацией Dasein может служить понятие «между» (zwischen). Ранее мы говорили о возможной симметрии указательных местоимений в отношении личных, подчеркивая связь «da», с тем что лежит между «я» и «он» (в частности, с «ты», «du»). Если искать Dasein в рамках привычных банальных онтологических координат (что будет соответствовать, на сей раз и онтическому эмпирическому подходу), то надо помещать его между – между внутренним и внешним, между прошлым и настоящим. Таким образом, Dasein пространственно пограничен (он пребывает на границе между) и темпорально мгновенен (принадлежит мигу между прошлым и будущим). В этом «между» проявляется «da» Dasein'а. Поэтому под определенным углом зрения можно назвать Dasein как «бытие между» (Inzwischen-Sein).
Экзистенциалы Dasein
Осуществление перехода к новому Началу требует выработки нового метаязыка, на котором призвана говорить фундаменталь-онтология. Традиционные философские термины пронизаны в самой своей основе интерпретацией, смыслами, значениями и контекстами, спряженными со старой онтологией, а следовательно, непригодны. Это привело Хайдеггера к постепенному пополнению фундаменталь-онтологического словаря, где все словарные позиции были либо новыми, либо переосмысленными в фундаменталь-онтологическом ключе старыми.
Так, вместо «категорий» Хайдеггер предлагает описывать Dasein с помощью его предикатов, разделяющих и уточняющих его. Эти предикаты Dasein'а Хайдеггер называет «экзистенциалами».
При этом в «Sein und Zeit» Хайдеггер проводит строгое разделение между прилагательными «existential» и «existentiel». Первое означает мышление Dasein'а в ходе развертывания фундаменталь-онтологии. Второе – описание онтической стороны Dasein в ее непосредственном выражении, без движения мысли в сторону нового Начала. Поэтому «экзистенциал» Dasein'а – это не просто дескрипция, но его философское фундаменталь-онтологическое утверждение. «Экзистанциэль» же (правда, этим словом сам Хайдеггер пользуется только как прилагательным) означает фактическое описание.
Хайдеггер дает краткий перечень экзистенциалов Dasein'а. Сам этот перечень есть процесс создания новой философии.
In-der-Welt-sein (бытие-в-мире)
Один из важнейших экзистенциалов Dasein Хайдеггер называет «in-der-Welt-Sein»(20) (быть-в-мире, бытие-в-мире). Dasein есть «In-der-Welt-sein». «Вот-бытие есть бытие-в-мире», — утверждает Хайдеггер.
Здесь важно понять, почему это называется «экзистенциалом» и в чем состоит «экзистенциальность» такого предиката. Дело в том, что «бытие-в-мире», взятое как экзистенциал (то есть в оптике фундаменталь-онтологии), не выносит никакого суждения ни о том, что находится в мире, ни то том, что такое мир, есть ли он, и имеет ли он какое бы то ни было самостоятельное бытие. «Бытие-в-мире» не отвечает на вопрос «где», оно предшествует возникновению такого вопроса, делает его «возможным». «Бытие-в-мире» не категория, а экзистенциал еще и потому, что «мир» конституируется здесь не через различие, не через пространство, не через место (топологию), но через бытие. «Бытие-в-мире» -- это в первую очередь именно бытие, причем такое, которое несет в себе «в» и «мир», и даже не «в» и «мир», как две отдельных фигуры, но такое наклонение, где «в» неотделимо от «мира», а «мир» от «в», а оба они от бытия. «В» не мыслится в отрыве от мира, как просто «в». Точно также «мир» не мыслится как нечто отдельное. «Мир» из экзистенциала Dasein'а всегда «в-чем-бытие», а не эссенция.
Важность этого экзистенциала станет для нас понятной, если учесть то, что Хайдеггер говорит о роли понятия fusiz в становлении досократической философии. Его введение привело постепенно к референциальной теории истины. Следовательно, новое Начало философии должно изначально двигаться иным путем. «Бытие-в-мире» как экзистенциал фундаментально потому, что препятствует введению в философию «мира» как природы, объекта, реальности, как какого-то сущего, строго отдельного то Dasein'а. «бытие-в-мире» это прививка против появления «мира» как эссенции. Поэтому это лишь предикат (экзистенциал) Dasein'а, а следовательно, относится к бытию напрямую, без старо-философского разделения на того, кто находится в мире (yuch, субъект) и сам мир, как нечто иное. Dasein всегда есть бытие-в-мире. Когда есть Dasein есть бытие-в-мире. И обратно – бытие-в-мире вызывает присутствие Dasein'а, так как без Dasein'а, как того, к чему прикладывается экзистенциал, он (фундаменталь-онтологически) немыслим.
Это в чем-то весьма напоминает феноменологический метод с той лишь фундаментальной разницей, что для Хайдеггера огромным и первичным значением наделен вопрос о бытии, прямая интуиция бытия и язык (бытие языка, язык бытия).
Для того, чтобы яснее понять Dasein экзистенциально, мы должны последовательно отказаться от двух впитанных вместе с классической онтологией аксиом: от убежденности в существовании «я» и «мира». При этом в метафизике Нового времени эти аксиомы приобрели истерическое значение под угрозой погашения сознания. Так было не всегда, но стало нормой только после зафиксированной «смерти Бога». Для людей традиционного общества онтологический аргумент состоял в вере в Бога. «Я» и «мир» были онтологическими следствиями, и в некоторых случаях могли быть признаны иллюзией (как майя в индуизме) перед лицом Абсолюта. Поэтому отказ от «я» и «мира» был вполне приемлемым культурным явлением и ничего не нарушал бы в привычном ходе вещей. Но в Новое время онтология отбросила «гипотезу Бога», предоставив человеку обосновывать свое бытие либо через субъекта (cogito), либо через внешний мир (эмпиризм, материализм). Именно такому современному человеку и адресована вся острота хайдеггеровской философии. К нему он обращается. И именно для него Dasein и представление о «бытии-в-мире» как об экзистенциале несут в себе наиболее острое революционное послание. У человека Нового времени есть только «я» и «мир». Хайдеггер начинает с того, предлагает расстаться с этими бездоказательными иллюзиями, но не в пользу какой-то иной, трансцендентной реальности (Бога, Абсолюта и т.д.), а в пользу фактически экзистирующего наличествующего именно здесь и сейчас Dasein'а. Хайдеггер не зовет нас назад в онтологию. Он полностью признает правомочность и закономерность нигилизма западно-европейской философии. Он зовет нас вперед, дальше, за последний предел ночи и ничто, где мы обнаружим не нечто новое, как не бывшее, а как единственно что есть, было и будет. Это Dasein и его экзистенциалы.
Dasein есть, и он есть в мире, но мир — это следствие Dasein. Dasein — это засасывающее и поражающее своим бытием наличие, которое отказывается называться “я”, отказывается называться «мир» и отказывается совпадать с чем бы то ни было. Как бытие-в-мире Dasein — это пространственно шевелящееся бытие, которое организует себя и всё вокруг себя. В начале идет in-der-Welt-Sein, Dasein, а потом только мир, то только в том случае, если у него будут шансы оправдать свою самостоятельность, что в условиях острой бдительности Хайдеггера к предотвращению повторения онтологических ошибок первого Начала философии, будет весьма не просто. Мир отныне становится экзистенциальной гипотезой. Мы знаем, что есть бытие-в-мире, но мы не знаем (можем только догадываться и строить предположения) о бытии мира.
«Бытие-в» и «бытие-с»
Развивая этот важнейший экзистенциал Хайдеггер также формулирует его несколько по-другому, вводя два других параллельных экзистенциала In-sein(21) и Mit-sein(22).
In-sein означает «Бытие-в». Мы уже говорили о том, что фундаменталь-онтология всячески стремится избежать эссенсицализации мира. Экзистенциал In-sein, «бытие-в» подчеркивает, роль Dasein'а в развертывания мира, как того, в чем пребывает Dasein. Еще до мира он пребывает в чем-то. И снова данное «в» (немецкое «in», «в» Хайдеггер этимологически возводит к готскому innan, жить, откуда современное немецкое wohnen) открывается только через бытие. Это бытие живет, оно проживает, оно обитает, пребывает в.
Аналогично следует толковать Mit-sein, «бытие-с». Этот экзистенциал ничего не говорит нам о том, кто пребывает и с кем. Но подчеркивает, что Dasein никогда не является одиноким, то есть сингулярным, то есть отделенным и обосновывающим свою идентичность на самотождестве. Формула Фихте «я» равно «я», на которой он основывает свою посткантианскую онтологию, здесь совершенно не пригодна. В Dasein еще нет того, кто мог или должен был бы снять свое одиночество, нет сингулярностей диалога, нет самого диалога. Здесь общность предшествует ее составляющим, общность – «с» («mit») – есть, а тех, из кого она состоит и между кем устанавливается нет. В таком случае «с», «mit» превращается, как и в случае с «в» в производную от бытия. Бытие рассказывает нам, что оно бывает только «с», без «с» бытие нет. Когда бытие обнаруживает себя, оно делает это как бытие-с, утверждая неодиночество как неотъемлемое свойства Dasein. Dasein не одинок.
Забота (die Sorge)
Хайдеггер описывает и иные экзистенциалы Dasein. Важнейшим среди них является die Sorge, забота(23). Dasein озабочен, и в этом проявляется бытие. Само бытие представляет собой заботу. Это чрезвычайно важное указание. Dasein не является чем-то отстраненным, холодным, погруженным только в себя, безразличным. Dasein есть озабоченность. В принципе этот экзистенциал вытекает из трех предшествующих бытие-В-мир, бытие-в и бытие-с, но расшифровывает их. Dasein излучает заботы и сам есть забота. Забота – в чистом виде – без того, чтобы был кто заботится и о ком заботятся. Экзистирование пристрастно, заинтересовано, включено в ход экзистирования.
Через заботу в направлении мира формируется его «подручность». Этот вектор «бытия-в-мире» конституирует нечто «наличное» «подручное» (das Vorhandene) как «поручное» (das Zuhandene). Бытие-в-мире становится бытием-в-доме, где наличие мыслится как окруженное заботой, конституируемое заботой.
Забота есть всегда, забота — сущность Dasein, но когда забота подталкивает Dasein перешагнуть невидимый барьер (учредив тем самым его), что-то пересмотреть, потрогать, съесть забота как экзистенциал может превратить «подручность» в объективацию. Таким образом, данный эксзистенциал Dasein'а показывает, каким образом в западно-европейской философии начиналось забвение бытия. Естественная для Dasein озабоченность в какой-то момент превратила мир, в котором проявлялось бытие (бытие-в-мире), в нечто чрезмерно «подручное». Здесь можно усмотреть перводвижение к появлению fusiz. Мы начинаем понимать, что фундаменталь-онтология не просто конституирует новое Начало в философии, но показывает также, по каким траекториям Dasein отчуждался от самого себя в первом Начале. Тем самым хайдеггеровская аналитика Dasein'а доказывает, что является по настоящему фундаменталь-онтологией, способной поместить в себя не только новую философию, но объяснить досконально то, как возникала старая, на каких погрешностях в отношении экзистенциалов Dasein'а она была основана и каким путем складывалась в самих своих основаниях.
Несколько позже мы увидим, что сам Dasein может иметь два базовых модуса – аутентичный и Неаутентичный. И каждый из экзистенциалов также может выступать как проявление аутентичного Dasein, а может и как неаутентичного. В случае экзистенциала заботы это видно наглядно, и мы уже можем представить себе, экзистенциалы Dasein в неаутентичном режиме будут пояснять и конституировать историко-философский процесс от первого Начала до Ницше.
В этом все значение Хайдеггера. Он не просто показывает, что кончилось то, что кончилось, но объясняет, что именно кончилось, когда оно началось и почему это произошло, а кроме того, строит мост к новому Началу.
Заброшенность (Geworfenheit)
Еще один важнейший экзистенциал Dasein — это заброшенность (Geworfenheit). Dasein заброшен, в этом состоит его фундаментальное основание, точнее отсутствие основания.
Dasein бросили. Он заброшен кем-то, где-то, куда-то, откуда-то, но ни кого-то, ни где-то, ни куда-то, ни откуда-то вне и до самого Dasein'а нет. Он заброшен во всех смыслах. В том числе, и в психологическом. Dasein заброшен, поскольку, нет такой инстанции, к которой он мог бы обратиться с жалобой, просьбой, заветом или требованием. В этом состоит смысл перехода от мышления, отталкивающегося от эссенции, к мышлению, отталкивающемуся от экзистенции. Dasein заброшен, потому что предоставлен самому себе в полном отсутствии какого бы то ни было наличие вне себя. Можно сказать, что он пребывает в броске, он летит, так как заброшенность не находит дна (Grund), но происходит в условиях бездны (Abgrund).
Хотя понятие Geworfenheit стало сегодня общепринятым и активно используется в философии и психологии, нетрудно распознать этимологические замыслы самого Хайдеггера. Как Unverborgenheit (дословно, несокрытость) для него имеет значение, эквивалентное «истине», как дословная передача этимологии греческого слова aleqeia, так и Geworfenheit есть ничто иное как немецкая калька с латинского subjectum, от «sub» (под) и jacere (бросать). Subjectum, субъект – это и есть заброшенный. В русском языке нечто подобное передается словом «подлежащее» (калька с другого латинского слова «substantivus» -- дословно «лежащее (точнее, стоящее) под»).
Субъект тоже заброшен, но это частный случай заброшенности. Заброшенность как экзистенциал Geworfenheit'а является изначальным и фундаментальным понятием. Оно свойственно как старой философии (где получает наименование yuch, daimon, субъект, «я» и т.д.), так и новой, где она выступает в чистом виде.
С заброшенность Dasein'а связан и другой экзистенциал – «набросок» (Entwurf) (в русском языке в слове «набросок» также как и в немецком присутствует корень «бросать»). Будущи заброшенным и пребывая в полете, Dasein сам совершает бросок. Этот бросок есть «бросок-на», как ответ на заброшенность. И здесь снова вполне можно провести параллели с латинским философским термином «proectum», «проект», что этимологически обозначает «брошено вперед», практически то же самое, что Entwurf или русское набросок. По латыни: subjectum, quia subiectum est, se proicit. Будучи заброшенным, субъект созидает проект.
Но «субъект» и «проект» суть не просто латинские слова, но философские понятия принадлежащие концептуальной топике старой философии, и следовательно, они относятся к метаязыку метафизики. Хайдеггеровская «заброшенность» (а также «набросок») вместо «субъекта» служит следующим целям:
· демонтажу метафизических смыслов философских терминов и их возврата в стихию языка (от терминов к словам);
· выработке метаязыка новой философии, который может основываться на германских корнях.
Заметим, что эта операция в русскоязычном контексте во-первых должна быть осмыслена, и тогда хайдеггеровская философия станет внятной и по-русски, причем привлечение славянской этимологии только поможет пониманию движения мысли самого Хайдеггера, а во-вторых может служить образцом выработки философского метаязыка на базе возврата к изначальным этимологиям, то есть собственно к самому языку, что откроет возможность построения русской философии (которой никогда не было) с опорой на изначальные славянско-русские смыслы (при свободном использовании сравнительных этимологий других индоевропейских языков).
Befindlichkeit (находимость) и страх
Следующий экзистенциал Dasein'а – это «находимость» -- Befindlichkeit(24).
Специфическая заброшенность Dasein'а проявляется в том, что пронзительно воспринимается самим как Befindlichkeit, как «находимость». Dasein находится. Двусмысленность переходности и непереходности в использовании русского глагола «находиться» («befinden», «sich befinden») здесь весьма на руку. Употребляя переходный глагол неправильно, то есть не поясняя «находится где», мы передаем самую суть этого экзистенциала. Находится не «где», а просто находится. Насилие над русской грамматикой пытается найти выход в такой интерпретации: Dasein находится, значит, его нашли. И этот второй, корректный, на сей раз, с грамматической точки зрения, смысл тоже вполне может быть принят с той поправкой, что Dasein никто не находит, так как помимо него ничего и никого нет, но при этом он сам себя (пока) не находит, так как «себя» (Selbst) Dasein'а составляет другую тему его аналитического описания. Поэтому все же Dasein не «находит себя», а находится. Эту формулу можно принять в качестве фундаментального утверждения новой философии в русском языке.
Тревожность того, что Dasein находится, выражается в модусе этой «находимости», которым является страх(24-1) (Furcht). Вследствие этого, будет вполне корректно сказать, что Dasein боится. Он боится и заброшенности (броска), и бытия-в, и ориентации на «мир», как места пребывания. Поэтому испуг составляет важнейший экзистенциал Dasein'а, в котором проявляет себя более общая «находимость». Dasein испуган, и может выразить свой испуг по-разному. Но еще прежде этих выражений, он изначально и фундаментально онтически пронизан страхом.
Verstehen (понимание?)
Хайдеггер считает, что Verstehen(25) («понимание» в переводе на русский) также является экзистенциалом Dasein. Понимание по-русски — этимологически означает просто брать что-то. «Понять» происходит от «ять», «нять», то есть взять что-либо, под-нять. То есть в русском языке понимание мыслится как апроприация, присвоение, захват и превращение в собственность (доместикация, поедание, использование, взятие на хранение). Если и можно в таком случае пользоваться русским словом «понимание», то только для описания этого экзистенциала в случае неаутентичного Dasein'а. «Понять» как «взять» можно только сущее, превращенное в «подручное», то есть сделать шаг за барьер, где заканчивается священное отношение к бытию, откуда – при всей домашности – лучше ничего не брать, а если и брать то оперативно отдавать. Бытие-в-мире, конституирую «подручное» через заботу, действительно, готовит это «подручное» к тому, чтобы его можно было бы взять. Но подлинный экзистенциал Dasein'а явно противится этому. А значит, Verstehen надо осмыслять как-то иначе, нежели конвенциональное русское «понимание». В немецком корне содержится, скорее, смысл «переставить» или «переместить»; в английском же «to understand» -- значение «поставить под». Во французском же «comprendre» (от латинcкого «comrehendere») в отличие от германских языков, как и в русском преобладает корень «prendre», то есть «брать», «присваивать». Нечто подобное по значению мы встречаем в немецком слове «das Vernehmung», «vernehemen» («восприятие», «воспринимать»). Сам Хайдеггер передает этим словом иногда столь важный греческий термин как nouz, noein – интеллект, разум, мышление, думать.
Dasein'у свойственно все «переставлять», менять местами. Возможно, в этом проявляется его забота, его соучастие, его сопричастность бытию-в-мире. «Переставляя» Dasein осмысляет то, что переставляет, опознает смысл переставляемого, помещает далекое поближе к себе, а слишком близкое чуть подальше, выстраивая тем самым интеллектуальный порядок. По смыслу это и есть понимания, но русское понимание (как и французское comprehension) слишком связано этимологией.
Здесь есть определенная лингвистическая проблема. Если вдаваться во все эти нюансы, то мы вообще перечеркнем возможность переводить Хайдеггера на русский и будем говорить о нем только на немецком языке. А если мы, напротив, попытаемся упростить ситуацию и откажемся от этимологических экскурсов, то рискуем получить полную бессмыслицу вместо стройной и предельно внятной германоязычной философии.
Выход я вижу в следующем. В самых важных узловых моментах хайдеггеровской философии, особенно там, где речь идет о создании им метаязыка этой философии, то есть о строительстве моста к новому Началу, следует держаться как можно ближе к немецкому оригиналу, рискуя усложнить текст, сделать его чрезмерно громоздким, но обеспечив интеллектуальную и философскую ясность и определенность. При этом в общем изложении модно отступать от этого правила и пользоваться некоторыми русскими словами без этимологических и терминологических уточнений, аппроксимативно. Сам Хайдеггер также часто сбивается с метаязыка, переходит спорадически от обычного расхожего понимания слова или термина к особому и специфическому только для его философии, а потом снова – без предупреждения и пояснений – возвращается к обычному использованию.
Или другой пример. В «Sein und Zeit» и других работах первого периода Хайдеггер пользуется словом Sein во всех случаях, где речь идет о бытии. В 30-е годы он начинает все более тщательно различать Sein (как бытие в онтологии) от Seyn (как бытия в фундаменталь-онтологии). На русский и на все другие языке это вообще не переводимо и непередаваемо, а для метаязыка Хайдеггера имеет принципиальное и основополагающе значение.
Поэтому, возвращаясь к экзистенциалу Verstehen, и пояснив, почему его нельзя в общем случае переводить как «понимание», тем не менее, можно с определенной натяжкой сказать, что понимание (как истолкование, расшифровка, осмысление, постижение – хотя ни одно из этих слов не дает нам этимологического эквивалента Verstehen) является экзистенциалом Dasein'а, что Dasein есть «понимающее бытие». Или так «понимающее», но не присваивающее» бытие (чтобы изгнать значение «брать»).
Речь (Rede)
Находимость (Befindlichkeit) и «понимание» (то есть Verstehen) Dasein'а выражают себя в речи(26). Хайдеггер подчеркивает, что древние греки в самом определении человека закладывали в качестве основанного признака способность к речи – zwon logon econ, что по Хайдеггеру надо переводить «говорящее животное», а не латинским «разумное животное» (animalis rationalis). (Далеко не всегда говорение обнаруживает наличие разума, но всегда Dasein'а).
Хайдеггер пишет: «Человек, выказывает себя как сущее, через речь»(26-1). Здесь важно, что человек выказывает себя именно как сущее (онтически), а не как человека. Через речь сам Dasein дает о себе знать. Поэтому речь и проявляемый ею язык уходят корнями в бытие. При этом важно, что именно язык, а не его грамматика и логика, выражают глубинный фундаменталь-онтологический пласт Dasein'а. В этом состоит важнейшая силовая линия всей хайдеггеровской философии. Язык как онтику Dasein'а следует «понимать» (verstehen) иначе, нежели с помощью логического аппарата, основанного на старой философии и, соответственно, на онтологии. На этом принципе основано все творчество Хайдеггера: при движении к новому Началу он обращается к языку как к экзистенциалу Dasein'а напрямую, и на его основании созидает метаязык фундаменталь-онтологии, как радикально отличный от языка западно-европейской философии от первого начала (Анаксимандр, Парменид, Гераклит) до ее конца (Ницше).
Язык – это Sein Dasein'а.
Хайдеггер подчеркивает, что в речь как экзистенциал входят органической частью и слушание и молчание. Молчание в случае
Stimmung
Другим экзистенциалом Dasein является Stimmung, Stimme. Это очень интересное слово. Это одновременно означает и голос, и мелодия, и настрой, и настроение. Настроенность Dasein — это тоже его экзистенциал, Dasein не может быть «сам по себе», иначе говоря, ненастроенным, ведь сам по себе он не будет играть, звучать. Dasein обязательно пребывает в одном из настроений. То он хохочет, то плачет, то грустит, то спокойно созерцает, то гневается, то нежится -- без этого он не мыслим, мы не можем представить себе Dasein, лишенный экзистенциала Stimmung.
В старой философии настроение считалось совершенно второстепенным свойством, недостойным философа. Невозможно представить себе, как какой-нибудь стоик, последователь Зенона Китийского Сенеки или Марка Аврелия, презиравших аффекты, вдруг говорит: «Мы чувствуем себя сейчас грустно, а сейчас весело». Мыслители должны быть безразличны, бесчувственны, отстранены, мыслить о вечных и неизменных принципах, созерцая αρχη, пребывать в αταραξια. А Хайдеггер полагает, что это тезис ложной онтологии. Отстраненность от настроения, приравнивание Stimme к аффекту свидетельствует о свершившемся разделении Dasein'а на душу (сознание nouz) и природу (fusiz), то есть на отчуждение и утрата соотнесенности с бытием, подмену вопроса о бытии вопросом о сущем и общем.
Dasein настроен, и эти настроения Dasein'а влияют на модусы философствования в фундаменталь-онтологическом ключе. Если аффекты в старой философии считались низшими по отношению к мышлению, в новом Начале настроения неразделимо сопрягаются с мышлением, входят в него.
С этим связано особое отношение Хайдеггера к искусству (в частности и, к поэзии). Увлекаемые настроением, Stimme, поэты и художники способны достичь в этом направлении самых дальних горизонтов, самых недоступных высот, которые по своей значимости сопоставимы с высшими философскими прозрениями. Хайдеггер считал философов и художников двумя типами людей, который поднимаются на одинаковую высоту, но на разных горных пиках и следуя разными путями. Они исходят из одного и того же Dasein'а, но движутся по разным траекториям. Поэтому Хайдеггер для истолкования многих чисто философских идей обращается к стихам Гельдерлина, Новалиса, Рильке, Георга Гейма, а также к картинам ван Гога.
Stimme – это бесспорно поэтический экзистенциал.
Часть 4. Неаутентичный режим экзистирования Dasein'а
Аутентичность и неаутентичность Dasein'а
Описав Dasein и его экзистенциалы, Хайдеггер вводит важнейшее разделение в сам Dasein. Он говорит о наличии у Dasein'а двух противоположных модусов бытия -- «eigene» и «uneigene». Это обычно переводится как «аутентичное» и «неаутентичное». «Eigene» по-немецки означает «собственное», иными словами, «свое», «принадлежащее только себе». «Uneigene» — это неподлинное, неаутентичное, отчужденное. Греческое слово autenthikon образовано от корня auto, то есть «сам», «свой», что точно соответствует немецкому «eigene».
Введение этого фундаментального разделения приводит нас к описанию двух типов экзистирования Dasein'а, и соответственно, к распределению всех экзистенциалов на два модуса: каждый экзистенциал может рассматриваться как в аутентичном (eigene), так и в неаутентичном (uneigene) издании.
Хайдеггер дает понять, что «естественное» (по меньшей мере, чаще встречающееся) состояние Dasein — это пребывание в неаутентичном. Dasein экзистирует в несобственном, в неаутентичном. Он может экзистировать (и должен был бы экзистировать) аутентично, но чаще всего (более того, почти всегда) это не так. Неаутентичность экзистирования Dasein составляет одно из фундаментальных свойств именно Dasein. Это не некое добавление к Dasein'у со стороны (такой стороны нет), это его неотъемлемое и фундаментальное свойство. Неаутентичность имеет в Dasein'е свои глубинные основания.
При этом все формы неаутентичного экзистирования коренятся в аутентичной структуре Dasein.
Здесь важно отметить, что Dasein проявляется (более не скрывается, открывается) в аутентичном модусе, а скрывается (прячется, пропадает) в неаутентичном. Но и то и другое – и раскрытие и сокрытие – составляют сущность его существования.
Всепронизывающая повседневность
В чем заключается сущность неаутентичного экзистирования Dasein? Хайдеггер называет это durchdringliche Alltaglichkeit (27), что значит «всепронизывающая» или «пронзительная повседневность». Казалось бы, какой легковесный термин — «повседневность». Но этот термин не подразумевает того, что происходит каждый день, потому что «каждый день» происходит все разное, а значит не может служить предикатом такого фундаментального понятия как Dasein. Неаутентичный регистр экзистирования сам порождает «повседневность», учреждает и конституирует ее, превращает в нее все, что ей может быть само по себе и не является, делает эту повседневность «пронизывающе», «пронзительной». Неаутентичность Dasein'а превращает в повседневное все, даже то, что является «уникальным» и «необычным». «Обычность» и «необычность» предопределяются настроем Dasein'а. В неаутентичном модусе любое – даже самое экстраординарное -- событие превращается в рутину, банализируется, включается в привычное. При этом мощь Dasein'а настолько сильна, что она способна вовлечь в «повседневность» все, удерживая в этом состоянии действия, мысли, события, жесты, происшествия, чувства. Никто и ничто не способны ускользнуть от этого регистра, когда он включен, пронизывающие лучи неаутентичности контролируют все.
Распад (Verfallen)
Так как Dasein экзистенциален, то его экзистенциалы не являются чем-то добавочным к нему, но выражают разные аспекты его самого. Соответственно, в неаутентичном модусе, экзистенциалы Dasein'а выступают как выразители этой неаутентичности. Не они подпадают под «всепронизывающую повседневность», но каждый на свой лад конституируют ее. Действуя в неаутентичном режиме экзистенциалы Dasein'а творят повседневность.
Так, «заброшенность» (Geworfenheit) в неаутентичном Dasein'е превращается в «распад», «разложение» (Verfallen)(28). Такое экзистирование своеобразно выражает, оформляет, модерирует и эмитирует фундаментальную стихи «броска». Dasein падает, распадается, рушится. Тем самым он создает «повседневность» как рассеянность, разбросанность, разложение, ветшание, смешение, множественность.
Это аффектирует и другие экзистенциалы. Например, «бытие-в-мире» в неаутентичном экзистировании Dasein'а становится «падением-в-мир», и в результате появляется сам «мир» как таковой, оторвавшийся от «бытия-в-мире», отчужденный от этого бытия, заведомо павший. Всякий мир есть павший мир, и эта падшесть, это грехопадение мира есть форма экзистирования Dasein как падения и распада. Мир отпадает от бытия-в-мире и становится миром, но становясь миром, он становится миром распада, распадается на множественность, немедленно начинает тлеть, рассеиваться в энтропическом процессе. Но это не свойство мира и даже не свойство отпавшего от «бытия-в-мире» мира, но свойство неаутентичного экзистирования Dasein'а. Мир превращается в повседневный мир через включения Dasein'ом неаутентичного режима.
Но падает не только мир. Сам Dasein падает и по-падает в повседневность. Это падение через по-падание в повседневность становится для Dasein его судьбой, его историей. История Dasein'а в его неаутентичном режиме есть история его падения (как неаутентичного выражения заброшенности). Именно поэтому история западно-европейской философии неумолимо движется к нигилизму – она воплощает в себе падение Dasein'а.
Падение это падение в неаутентичность (Uneigentlichkeit).
Болтовня (Gerede)
Другими свойствами неаутентичного Dasein'а являются болтовня (Gerede)(29), любопытство (Neugierigkeit)(30) и двусмысленность (Zweideutlichkeit)(31).
Болтовня есть разновидность речи (в немецком это явно Gerede – Rede), которая повествует Dasein'е, каким он предстает в своем неаутентичном режиме. В этом болтовня проявляет себя точно также как речь и точно также как речь является экзистенциалом Dasein'а. Различие в том, что болтовня это речь, пронизанная повседневностью, созидающая эту повседневность, погружающая в нее того, кто говорит и того, что слушает, а также того, кто молчит (в данном случае помалкивает). В болтовне невозможно ясно различить кто говорит, о чем говорит, кому говорит, зачем говорит. Она представляет собой отвлеченное от самого говорящего и от того, к кому он обращается, фоновое бормотание, белый шум. В этом проявляется сам Dasein (хотя и в неаутентичном режиме); именно ему свойственно речью повествовать о наличествующем в нем бытии, обращаясь ко всему и ни к кому одновременно. Болтовня переводит этот экзистенциал Dasein'а в сообщение о «вот» (da), а не о «бытии» (Sein) «Вот» -- звучит в болтовне (Gerede), «вот, вот, вот». Болтовня привлекает внимание к фактичности (что также является экзистенциалом Dasein'а), но отвлекает от бытия, поэтому фактичность становится несущественной, ничтожной. Нескончаемое бормотание о ничтожном ткет структуру повседневности, наполняет ее нескончаемым дискурсом, как своего рода тоталитарное радио, которое невозможно выключить, так как оно звучит в нашем сознании. Попытка сосредоточиться на смысле высказывания оканчивается неудачей, так как Gerede переходит к следующей теме ровно в тот момент, когда разум пытается осмыслить предыдущее.
Неаутентичный Dasein не выносит молчания, как аспекта аутентичной речи, но не выдерживает и полноценной речи, повествующей о бытии, спрашивающей о нем, призывающей вслушаться в его голос. Голос бытия всегда тих, но чтобы не оставалось никаких шансов его услышать, Gerede звенит все громче и громче. Она стремится высказать все, чтобы не сказать ничего, но чтобы заполнить вопрошающее молчание потоком повседневных констатаций.
Болтовня – неотъемлемое свойство многих даже самых молчаливых и угрюмых персон (нелюдимые тихони внутри себя еще более болтливы). Про себя люди постоянно говорят, в их голове непрерывно что-то происходит, вращаются фрагменты слов, мыслей, понятий, фраз, это и есть экзистенциальная болтовня неаутентичного Dasein. Она не имеет начала и имеет конца. Когда человек только появляется в мир, он слышит скрипы, звоны, бряцание медицинских инструментов, шушуканье медсестер, самоуверенный басок докторов, крики рожениц, ор младенцев (включая свой собственный), далее включается непрерывный бубнеж папы, мамы, братьев, сестер, бабушек, дедушек, котов, телевизоров, позже дикторов, учителей, начальников, подчиненных, страховых агентов, кассиров, администраторов, и снова под конец медсестер и докторов. Под такой же вздорный и бессмысленный рокот повседневно нанизанных друг на друга не наделенных повествованием о бытии фраз, человек уходит из жизни.
В болтовне Dasein забрасывается, в болтовне ликвидируется. Когда человек умирает, то болтовня всё равно продолжается, так как является фундаментальным свойством неаутентичного Dasein.
Любопытство (Neugierigkeit)
Понимание (Verstehen) превращается в любопытство, в невротическое желание знакомиться все с новыми и новыми видами, концепциями, состояниями, вещами, местами, событиями без какого бы то ни было погружение в их бытие. Любопытство и есть попытка присвоить, взять на себя, приватизировать мир, оторванный от своего бытия, и любопытство по мере его удовлетворения только возрастает, так как беря себе мир без его бытия, Неаутентичный Dasein ничего не приобретает, но только теряет, рассеивая в падении (а любопытство и есть падение понимания (Verstehen)) свое главное свойство – бытие, заложенное в «вот-бытии» (Dasein).
«Neugierigkeit» в немецком дословно означает «жадность к новому». Русское «любо-» (от «любовь») и «-пытство» (от «пытать», то есть «узнавать», «изучать», «вызнавать», «распутывать») не несет на сей раз негативной коннотации. Жадность к новому намного более острое выражение тщеты неаутентичного Dasein'а. Жадность к новому толкает Dasein к постоянному скольжению от одного к другому, как только одно становится привычным. Но привычным не значит «понятым» (vertstanden -- хотя снова, русское слово «понимание» здесь совсем не уместно – Неаутентичный Dasein как раз «понимает» в смысле «поднимает» нечто, чтобы в следующий момент его отбросить, так как в его интенции заложено не исследование бытия в «поднятом», а сам жест его всего «мнимого» присвоения; а в то же время русское слово «любопытство» совсем не значит этимологически ни попытки присвоения, ни перехода к новому – оно может быть свойством вопрошающего одно и того же, любопытство может вызывать одна и та же вещь, если Dasein'у «любо» «пытать» («вопрошать», «спрашивать») ее о ее бытии).
Элементы, репродуцируемые Dasein’ом в неаутентичном бытии, становятся постоянным и непрерывным блудным, блуждающим созерцанием, которое ни к чему не тяготеет.
Жадность к новому есть форма высшего невежества, перебегая от одного к другому и хватая все подряд, чтобы через секунду бросить, неаутентичный Dasein превращает все в старое, а значит, в бессмысленное, неинтересное, не вызывающее никакого подъема. Так, Neugierigkeit становится бегством от смысла, мысли, содержания, а значит от бытия.
Хайдеггер утверждает, что в любопытстве (Neugierigkeit) проявляется стремление человека видеть. Видеть это значит не понимать. Сам факт видения ничего не сообщает Dasein'у, никак не продвигает его в постижении бытия. Видение наименее онтическая из всех форм восприятия. Повседневность заменяет видимостью (doxa) осмысленное понимание (Verstehen) и погружает неаутентичный Dasein в непрерывную череду бесконечного sightseeing.
Мышление требует ограничения видимости, сосредоточение на созерцании одного и того же, чтобы это созерцание приоткрыло бы бытие созерцаемой вещий или самого Dasein'а. Отсюда традиционные практики медитаций, концентрации внимания на одних и тех же предметах. Чем меньше человек видел, тем больше у него шансов что-то осознать, осмыслить. Но это аутентичный Dasein. В неаутентичном – все наоборот, целью является накопление видимостей, заменяющих собой осмысленность. Чем тотальней будет способность к наблюдению, тем бессмысленней будут наблюдаемые картины.
Можно сопоставить между собой два экзистенциала неаутентичного Dasein'а – болтовню и любопытство. В болтовне (Gerede), как правило, повторяется одно и то же, и это навязчивая бессмыслица не прекращается даже ночью, когда человек закрывает глаза или ни на что не смотрит. Любопытство же толкает его постоянно к новому, к тому, что он «не видел» ранее. Так вечное возвращение одних и тех бессмысленностей в форме Gerede дополняется «освежающим» потоком новых бессмысленностей в форме Neugierigkeit. Идеально с этим справляется телевизор, еще не изобретенный в период написания «Sein und Zeit». Телевизор совмещает поток полуомысленной сбивчивой информации с потоком образом. Тем самым телевидение является одним из высших воплощений пронизывающей повседневности, и следовательно, привилегированной формой экзистирования неаутентичного Dasein'а.
Двусмысленность (Zweideutlichkeit)
То, что Dasein всегда находится между (zwischen), порождает в неаутентичном режиме постоянную двусмысленность, неопределенность, размытость, непрерывно путающую онтические вектора развертывания Dasein'а в направлении пространственных или временных горизонтов. В отличие от аутентичного Dasein'а, которое схватывает в бытие-между именно бытие, освобождающее его от ложных отождествлений с сущим вовне (fusiz) и сущим внутри (idea, yuch), неаутентичный Dasein, напротив, впадает в череду метаний между внешним и внутренним, не в силах сосредоточиться и доказать онтологическую основу ни того, ни другого, вращаясь в круговороте нарастающих как ком неопределенностей.
Двусмысленность моно рассмотреть как наложение болтовни на жажду нового. Бессмысленное повторение одного и того же в болтовне порождает в неаутентичном Dasein'е симуляцию постоянства, что создает фиктивный смысловой ряд, как своего рода бубнящее постоянство псевдо-смыслов. Любопытство же, со своей стороны, привносит псевдодинамику мелькающих картин. Так как и то и другое суть противоположности смыслу, то оба процесса пребывают в десинхронизированном состоянии – бормочу одно, а вижу другое, а так как не понимаю ни того, что вижу, то того, что говорю (или слышу), то получается двусмысленность как наложение друг на друга двух бессмысленностей (звуковой и визуальной).
Страх как бегство
В неаутентичном экзистировании страх, присущий Dasein'у как такому, подталкивает его к бегству. Это бегство (или ускользание) характеризуется не тем, куда бежать, но не тем, откуда, отчего бежать. Страх неаутентичный Dasein интерпретирует как страх перед бытием, и соответственно этот страх превращается в паническое бегство от бытия.
Бегство от бытия, то есть от того в Dasein'е, что соответствует Sein'у, может осуществляться в двух направлениях – вовне и внутрь. Бегство вовне означает конституирование мира как мира, в отрыве от бытия-в-мир. Этот мир как нечто самостоятельное становится результатом неаутентичного экзистирования Dasein'а бегущего от самого себя, и направление этого побега вовне создает мир, как то, куда бегут от бытия. Вместе с тем, тот же мир, выпавший из бытия-в-мире, может быть описан и как результат неаутентичной заброшенности. Когда заброшенность становится падением и распадом, она, в первую очередь, конституирует не того, кто падает, но то, куда падают и там уже распадаются. То, куда падают, это то же самое, куда бегут.
Другая форма страха может быть вызвана как раз тем самым миром, который конституируется отрывом от бытия. В этом случае, бегство от бытия становится бегством от мира, и неаутентичный Dasein конституирует внутреннее измерение, субъекта, который автономизируется в ответ на страх, внушенный внешним. В и этом случае, это может быть также представлено как заброшенность, только не мир, а в противоположном от мира направлении, как отчужденность от мира, как поворот от сущего и от бытия сущего.
Во всех случаях неаутентичного экзистирования Dasein'а страх это страх, сопутствующий бытию, страх бытия и страх как бытие, становится страхом перед бытием.
Фигура das Man
Описывая экзистирование неаутентичного Dasein'а Хайдеггер вводит фигуру das Man(32). В немецком языке это неологизм. «Мужчина», «муж» пишется как «der Mann»-- существительное мужского рода и с двумя n на конце. Вместе с тем в немецком существуют такие формы: man spricht, man sieht, man denkt, что переводится как «говорят», «все видят», «думают». В русском прямого аналога этому нет, и соответствующие формы передаются либо употреблением третьего лица глагола без личного местоимения (говорят, думают), либо возвратным глаголом также без личного местоимения в третьем лице единственного числа (считается, поется), либо с глаголом в третьем лице множественного числа с местоимением «все» («все думают», «все считают»). Во французском языке у das Man у есть прямой аналог -- on, l'on (который образован от французского homme, l'homme – «человек», также как и немецкое man от der Mann, мужчина, ранее также человек, в современном немецком «Mensch»). На английский это выражение можно перевести как they think, то есть «они думают» (что напоминает русское «думают»), но в данном случае английское they не имеет значение «они», но некие неопределенный, условный субъект, считающийся всем известным и самоочевидным.
Хайдеггер вводит das Man как выражение неаутентичного Dasein'а, впавшего в повседневность. Das Man – это «я» неаутентичного Dasein'а, это его персонифицированное выражение. Das Man это ответ на вопрос «кто?» в отношении неаутентичного Dasein'а.
В das Man выражается неаутентично взятый экзистенциал бытия-с (Mit-sein). Так как Dasein всего открывается как бытие-с, как бытие-вместе, в неаутентичном режиме это означает перенос субъективности на некую неопределенную размытую и нефиксированную инстанцию, находящуюся (как и сам Dasein) между (zwischen). В данном случае das Man – это не «я» отдельного человека, и не «он», и не «ты» и не все вместе взятые, das Man – это скорее никто, так как на него проецируются не ответственные утверждения, заключения, действия, выводы и проекты, но, напротив, отказ от всякой ответственности за утверждения, заключения, действия, выводы и проекты, бегство от них, ускользание. Плотность движения от ответственности, прочь от нее, порождает экзистирование das Man, который становится референциальной точкой отсчета для всего и всех. То, что человек не продумывает сам и что не продумывает кто-то другой, но фиксированный и конкретный вокруг него или даже вдалеке от него, попадает в категорию «думают», «думают, что», «считается». Как правило, никто конкретно (ни по отдельности, ни все вместе) не думает так, как «думают» (как думает das Man), но тем не менее именно это отсутствие персонифицированной в ком бы то ни было позиции и наделяет (нечленораздельные) «думы» das Man высшим авторитетом, непререкаемой «истинностью», безусловностью и очевидностью.
Das Man конституируется вместе с повседневностью, как ее безличная персонификация, как ее центр, в котором не находится ничего конкретного, определенного, ясного и прозрачного. Das Man – это сосредоточение двусмысленности (Zweideutlichkeit), в его «изъявлениях» никогда не бывает однозначности и упорядоченности, но от этого они становятся все более обязательными, давящими, самонавязывающимися. Чем больше das Man утверждается в обоснованности своей деятельности и своих суждений, тем более он нелеп и необоснован.
В das Man, пишет Хайдеггер «каждый есть другой, и никто – он сам»(33).
Das Man — это главный актор и в то де время творец повседневности. Это «кто?» Dasein'а в падении, в распаде (Verfallen). Das Man падает, не замечая этого, ему кажется, что он, напротив, «хорошо сидит».
Das Man является тем, кто порождает неаутентичную онтологию, именно он говорит о субъекте, об объекте. В нем возникает и выстраивается цепь неаутентичных экзистенциалов, система онтологических суждений, концепции субъекта, объекта и — страшно сказать — «бога». «Бог», как онтологический конструкт неаутентичного Dasein'а, учреждается его неспособностью по-настоящему обратиться к другому, равно как и к подлинному состоянию самого себя.
По Хайдеггеру, человек, говорящий “я”, это нелепый безумец, поскольку корректное философское осмысление местоимения первого лица в принципе делает невозможным его практическое использование. Когда человек говорит “я”, это das Man подталкивает его это сказать; «я» становится цитированием неопределенной надежной и бездоказательной одновременно инстанции. Произнося «я» через das Man человек рассеивается в «падающем мире», наполненными зеркалами das Man'а, множественными карикатурами на цельность, личность, разумность, решимость.
Аналогичная ситуация возникает и с выражением «объективное», «реальное», «реальность». Полагая внешнее данным, человек снова действует в измерение das Man'а, который вместо отношение к сущему через вопрошание о его бытии, принимает его как самообоснованное данное, а значит, перечеркивает его сущность и само его существование, аннигилирует их, подставляет вместо него ничто. Реальность, объективность, и особенно материальность – это глубоко нигилистические концепты, сама возможностью существования которых коренится во всепронизывающей повседневности и в глупой мудрости das Man'а. В современном американском языке есть устойчивое выражение «conventional wisdom», конторе означает дословно «мудрость, в отношении которой все согласились, что она мудра» или просто «общее место». Это и есть форма существования das Man, форма его мудрствования, в отношении чего все согласны (хотя никого конкретно не спрашивали), но что не может ни указать, ни доказать свои истоки и свой интеллектуальный генезис, в корнях которого вполне может скрываться неточность, ошибка, нелепость или откровенная натяжка.
Das Man имеет и своего «бога». Этот «бог» спокоен, ленив и никак не участвует в жизни людей. Ленивый, бездельничающий Бог (deus otiosis историков религий) — это тоже творение das Man.
Das Man всегда мыслит практически, и поэтому создает свою повседневную онтологию, в которой сомнению подлежит все глубокое и проблематичное, но радостно и уверенно принимается как надежная очевидность пустейшие химеры. Можно предложить схему онтологического треугольника das Man'а.
«бог» (банальный, ленивый, спокойный)
Das Man
 |
|||
повседневное «я» реальность
не задумывающееся о объективность
своей самости внешний мир,
надежный, материальный, плотский и очевидный
Схема онтологических полюсов неаутентичного Dasein'а
Конечно, das Man вполне может обойтись и без «бога», так как твердая уверенности в надежности ошибочного и недоказуемого («я» и «реальность») и сомнение во всем остальном (подчас гораздо боле е обоснованном и самоочевидном) для него в целом достаточно, чтобы экзистировать. Но все же он «на всякий случай» резервирует и это высшую онтологическую инстанцию, куда может поместить вместо «бога» и «идею», «ценности», «идеалы», «мировоззрение» «государство», «общество» и т.д. (свинья грязь найдет).
Картина неаутентичного бытия — картина нашей привычной повседневности, сотканной из нас самих, в глазах философа становится процессом фундаментального онтологического разложения — бурного, активного, страшного, ежесекундного и постоянного. Мир, обычно открывающийся das Man`у (и всем остальным в повседневности) успокоительно, на самом деле в такой оптике представляет собой нечто страшное, катастрофу, кризис, падение и разложение. Попасть под чары das Man'а и его «conventional wisdom» страшнее, чем в лапы маньяка. Попавший в лапы маньяка, возможно, вспомнит о подлинном бытии. А не попавший — о нем вспомнить не может, хотя он уже в лапах маньяка, его разделывают спящим, тихим, уютно посапывающим. И если бы на секунду сознание хоть тенью коснулось этого настроения, человек пробудился бы, потому что нет ничего более чудовищного, насильственного, патологического, нежели то, что происходит в пронзительной повседневности. Das Man разделывает бытие, заставляет сущее гнить и разлагаться, превращает живое в мертвое, а спасительное вопрошание в удушающий и заведомо неверный ответ.
Das Man как эсзистенциал Dasein'а
Чтобы понять мысль Хайдеггера следует тщательно избегать любого намека на дуализм. Неаутентичность экзистирования Dasein'а; трансформация его экзистенциалов – «заброшенности» в «падение» и разложение», «понимания» -- в «любопытство», «бытия-в-мире» в иллюзию объективности, «бытия-между» -- в «двусмысленнсть» и т.д.; центральность фигуры das Man'а; всепронизывающая повседневность – все это не нечто внешнее, чуждое, иное, нежели сам Dasein, это и есть он сам, его собственный выбор, его собственное решение (Entscheidung). Здесь не пригодны определения «плохое»/«хорошее», «истинное»/«ложное», «доброе»/»злое» и т.д. В всех случаях и в обоих режимах – аутентичном и неаутентичном – мы имеем дело с одним и тем же – с Dasein'ом и его экзистирование, которое – как бы оно не экзистировало – всегда выражает существование Dasein'а и только его.
Поэтому, чтобы избежать всякого намека на дуализм, описывая das Man и его особенности, Хайдеггер подчеркивает: «Das Man – это экзистенциал и как изначальный феномен принадлежит к позитивной структуре Dasein'а»(34). Это чрезвычайно важное пояснение. Экзистируя неаутентично, Dasein все равно остается главным и единственным дистрибутором бытия, смысла, содержания, структур и ориентаций процессов, даже если эта дистрибуция выражается в нигилизме, ложной онтологии, отчуждении, бессмысленности, невнятности, бестолковости, запутанности и гниении. За неаутентичность, равно как и за аутентичность экзистирования несет ответственность только и исключительно Dasein; именно он стоит в центре и является существованием всего, предопределяя что есть; как есть то, что есть и до каких пор будет то, что есть.
Саму неаутентичность Dasein'а Хайдеггер призывает мыслить позитивно.
Часть 5. Аутентичный Dasein
Аутеничный Dasein и бытие
Что такое аутентичность?
Хайдеггер определяет ее как антитезу неаутентичности, описанную через те формы экзистирования, которые мы рассмотрели выше.
Самое главное в аутентичном (eigene) Dasein – то, что он сконцентрирован на возможности быть, на том Sein (бытии), которое есть (ist) здесь, вот-здесь (da). Наличие Sein заложено в Dasein'е, но сам Dasein в своем экзистировании может обратиться с этим Sein двояким образом. Он может отвлечься от него, отмахнуться, отвернуться, сосредоточиться на чем-то другом (например на чистом «da», т.е. на «вот»). В случае такого решения он вступает в режим неаутентичности и начинает экзистировать через развертывания пронзительной повседневности, со всеми характерными для нее версиями экзистенциалов – das Man'ом, любопытством, паническим бегством, болтовней, двусмысленностью и т.д.
Аутентичный Dasein экзистирует в том, что он есть, в том что в нем превалирует бытие, в том, что он существует как бытие. Аутентичность обнаруживается там, где мы уходим от неаутентичности, справляемся с бесконечной болтовней и любопытством, а также с «conventional wisdom» das Man'а; когда перестает бежать от бытия в мир или в себя; когда пребывая в мире мы сосредотачиваемся на именно на бытии, о через это сосредоточение осторожно и внимательно доходим до того, «где» это бытие; когда на вызов заброшенности мы отвечаем интенсивным осознанием находимости, но не позволяем находимости успокоить нас, но культивируя заброшенность и ее вопросительность. Но во всех этих аутентичных экзистенциалах главное это концентрация на бытии – во всех его модальностях и во всех сочетаниях. Мы должны обращаться к нему с вопросом о нем самом, и тогда Dasein будет развертываться в соответствии со своим фундаменталь-онтологическим режимом.
Бытие, которое вот и которое есть
Что может сказать о себе вот-бытие, пребывая в собственном аутентичном модусе? Оно может сказать только два последних страшных и прекрасных слова: вот-бытие; вот – бытие; вот, бытие есть. Вместо “я”, вместо «мир», вместо «бог» надо говорить только одно правильное, первичное, слово «есть». Вначале «есть», а потом уже что, кто, как, где, когда, почему, зачем. Но это «есть» все чаще выпадает, стирается, иногда исчезает.
Некогда в русском языке глагол связка «быть» в разных формах являлся непременным участником любых утвердительных предложений. Бытие было необходимым элементом грамматики. Сейчас мы говорим: «я — ребенок», «она — субъект уголовной ответственности», «мужчина — инвалид», «мы – молодцы». А где «есть»? Мы имеем «меня», «ее», «мужчину», «ребенка», субъекта уголовной ответственности, «инвалида» -- но нигде не указывается, что они есть, что они относятся к бытию, и бытие говорит нам сквозь них. Может сложиться впечатление, что все, о ком идет речь, не существуют, что это условные знаки, которых покинуло бытие, или они сами от него сбежали, ускользнули, попятились и рухнули в ничто. Раньше в старо-русском языке такое было невозможно, глагол быть спрягался и обязательно присутствовал в подобных формах.
азъ есмь
ты еси
(она, она, оно – ранее не личные, но указательные местоимения) есть
мы есмы
вы есте
(они) суть
Поэтому фраза «я – ребенок» звучала бы так: «азъ чадо есмь». Но бытие ребенка – его есмь – несовместимо с «я», «я» -- это нечто отроческое, юношеское, подростковое. Стоит вернуть бытие в это высказывание, и оно запретит себя произносить. «Она есть субъект уголовного права», значит грош ей цена, ее бытие опускается на уровень уголовного права, Значит, она не просто совершила преступление, но ее бытие вращается в онтологии уголовного права, и место такой на каторге. «Этот мужчина есть инвалид», значит, инвалидность соотносится с его бытием. Признать это, значит, низвести свою мужественность до инвалидности, а это противоречит мужественности. Поэтому мужчина, даже без руки или глаза, всегда будет стараться быть чем-то иным, нежели инвалидом. Он будут стараться быть мужчиной, а инвалидность свою будет репрессировать, загонять подальше от чистого сияния света бытия. Так глядишь и вообще вылечится. Раны воина в традиционном обществе либо вообще не замечались, либо из носили как украшение, и любой косой взгляд на кривого от вражеской стрелы ветерана может стоить тому, кто его бросил, обоих глаз, а то и свернутой глотки. Тогда безрукий, безногий и кривой были мужчинами и сами и все остальные чтили в них бытие и мужественность. В том же духе и с молодцами, если «мы есмы молодцы», то это бытие молодцами нас ко многому обязывает. Если уж мы похвалились через бытие, то нам перед этим бытием и ответ держать. Это многократно обыгрывается в русских былинах, где похвальба влечет за собой черные чудеса – смерть (в былине о Федрое Буслаеве, воскрешение татарского войска в былине о Илье Муромце и Батыге и т.д.).
Аутентичность Dasein'а это его поворот к Sein'у, его желание и воля быть, решимость к открытию себя как бытия. В таком случае Dasein этимологически концентрируется на самом себе как на бытии, которое не где-то там, не во вне и не внутри, но вот, между; заброшенность и находимость применяется к бытию. Бытие-с становится бытием-с-бытием. Бытие-в-мире превращается в бытие-в-бытии. Речь вещает о бытии. Страх превращается в ужас (Angst), который не распыляет и не заставляет бежать, но обращает все силы только к бытию, которое есть угроза и спасение, ужасающее и ужасающееся, обнажающее свою конечность и принимающее ее.
Пространственность как экзистенциал Dasein'а
Пространство, в котором Dasein экзистирует аутентично является священным, живым, фундаменталь-онтологическим пространством. Пространство рождается из вот-бытия. Пространственность(35)(Raumlichkeit) открывается как один из экзистенциалов Dasein'а.
Пространство есть развертывание вот (da) Dasein'а. Но эта точка, с которой оно начинается, есть не произвольная абстрактная точка, но то, на что указывает бытие (Sein), как на свое присутствие (Dasein). Бытие в таком случае мыслится не отдельно от «вот» («вот-здесь»), «не «там» и не «где-то там», а именно вот-здесь, и ужас, которой эта концентрация бытия в фактичности Dasein'а внушает ему самому, в аутентичном экзистировании превращается в утверждение самости (selbst) Dasein'а.
«Кто» аутентичного Dasein'а
Хайдеггер говорит о том, «кто» является в подлинном Dasein'е. На вопрос кто?(36) -- аутентичный Dasein отвечает формулой «сам», «он сам», по-немецки Selbst. Selbst аутентичного Dasein'a состоит в его отождествлении с бытием, Sein. Dasein может быть. Он может быть самим, тогда он есть, но может быть не самим, тогда вместо него самого (Selbst) выступает das Man и другие неаутентичные экзистенциалы.
Можно подойти к аутентичной самости Dasein'a через отрицание das Man'а, через решительный и сознательный поворот от пронзительной повседневности, но этот поворот будет действительным только в том случае, если его осуществит сам Dasein, через опору на бытие, в нем присутствующее и через него говорящее.
Бытие к смерти (Sein zum Tode)
Важнейшим свойством Dasein'a в его аутентичном экзистировании является бытие к смерти(37). Повседневность не любит тематику смерти, das Man живет всегда и всегда искушает и насилует нас мыслью о том, будто бы он и, соответственно, мы бессмертны. Как только у Dasein'а проявляется внимание к смерти, как только смерть обнаруживает себя как «здесь и сейчас», как только смерть безо всяких промежуточных реальностей запущена в Dasein, — возникает наиболее возможность Dasein'а перейти к аутентичному режиму. В этом режиме страх превращается в ужас, который проистекает из молниеносного осознания Dasein'ом своей конечности. «Бытие-к-смерти, — пишет Хайдеггер, — есть сущностный ужас, Angst».Dasein конечен, смертен и присутствует перед лицом смерти. Когда он повернут к ней лицом и сосредоточен на ней, он раскрывается в интенсивности абсолютного предельного ужаса.
Ужас – противоположность страха. Страх провоцирует наполнение внешнего мира вещами, а внутреннего мира – (пустыми, как правило) мыслями и переживаниями. Нагромождение множеств вещей и идей суть выражение страха Dasein'а перед своей смертностью и конечностью. Эта уловка работает в неаутентичном Dasein'е, который баррикадируется рассеиваемым множеством от простоты и суровости смертного момента. Но эта безопасность множества есть обратная сторона страха, она не снимает его, но усугубляет, делает плоским, мелким и жалким. Альтернативой является спокойной торжество ужаса (Angst) перед лицом ясно созерцаемой смерти. Столкновение со смертью через ужас есть необходимое следствие первичности Dasein'a и его онтического статуса. Не имея до и после себя ничего, равно как внутри и вовне себя, Dasein может находиться в диалоге только с ничто. Бытие, заложенное в Dasein'е слишком нерасчленимо, чтобы в аутентичном состоянии постулировать что-то вне себя; аутентичный Dasein собран и консолидирован, еще не рассеян по множеству сущего, которое возникает именно через переключение в неаутентичный режим. По этому сам по себе в своем Selbst Dasein может вести только со смертью и со стихией чистого ничто. Столкновение с этой стихией напрямую и есть состояние ужаса. Ужас есть приоритетная форма экзистирования аутентичного Dasein'a. В ужасе Dasein есть Dasein, то есть он сам в максимальной степени, так как он полностью сконцентрирован на своем бытие, которое будучи бытием в полном смысле ( не бытием частным, и даже не бытием общим) вне себя может полагать только небытие, то есть смерть. Бытие всегда существует к смерти и перед смертью. Там, где присутствие смерти максимально, отчетливо, там царит глубокий и совершенный ужас. Этот ужас есть верный признак наличия бытия, так как смерть внушает ужас только тому, что есть и что может не быть; то, что не есть, никакого ужаса не испытывает; несущее чувствует себя в смерти прекрасно. Ужас она вызывает у сущего, которое молниеносно отдает себе отчет в том, что оно есть.
Das Man пытается всячески укрыть Dasein от столкновению с ужасом и бытием перед лицом смерти. Он непрерывно болтает, интересуется, любопытствует, движется, наполняет мир предметами, а душу переживаниями только для одной цели, чтобы укрыться от этого ужаса. Но укрыться от него можно только, отказавшись концентрироваться на бытии, как на конечности то есть ценой имитации небытия. В неаутентичном режиме Dasein прикидывается таким образом, чтобы его не было заметно ни со стороны смерти, ни со стороны бытия. Он как бы есть, но его как бы и нету. Так он пытается ускользнуть от абсолютного ужаса и сымитировать бессмертие.
Совесть (Gewissen)
Хайдеггер описывает процесс вызывания Dasein'a к аутентичному бытию через введение в игру совести. «Совесть, пишет он, призывает самость (Selbst) Dasein'a из потерянности в das Man'е» (38).
Немецкое слово Gewissen означает одновременно и совесть и сознание. В русском – такая же этимология – со-весть образовано от со- и весть, ведать, тогда как немецкое Gewissen от обобщающего префикса ge- и корня wissen (знать, ведать). Совесть поднимается из глубин Dasein'a и взывает его самого к сосредоточению внимания на бытии. «Dasein есть вызывающий и тот, к кому взывают», пишет Хайдеггер(39).
Спокойная совесть неведома психологам, обычно совесть дает о себе знать, когда она нас укоряет. Gewissen — это постоянное ощущение вины, которую испытывает Dasein. С точки зрения Хайдеггера, Dasein принципиально фундаментально виновен. Но только в неаутентичном состоянии он пытается либо оправдаться, либо каким-то образом укрыться от осуждения, замазать вину. Но Dasein, прислушивающийся к голосу совести открывается вине, поскольку через вину, как через фундаментальный укор, открывается ему подлинное бытие. Открывшись вине, Dasein возвращается к тому, что им собственно и является. Осознание вины, причем чистой вины, вины как таковой, напоминает Dasein'у, что он находится в неподлинном режиме.
Он виновен в пронзительной повседневности, он виновен в das Man, он виновен в любопытстве и болтовне, он виновен в страхе, в постулировании реальности и «я», в распаде и разложении, то есть во всех наклонениях неподлинного экзистирования. Вина Dasein'а всегда доказана и всегда абсолютна. Для того, чтобы почувствовать, насколько бесконечно и абсолютно он виноват, Dasein'у лучше не совершать ничего предосудительного. Тогда-то не будет возможности скрыться от понимания высшей степени его виновности перед бытием. За всякую конкретную вину всегда можно расплатиться. Единственная вина, которую нельзя искупить —
Позитивность аналитики Dasein'а во обоих режимах
Аутентичный Dasein есть Dasein таким каким он есть, равно как и его экзистенциалы в аутентичном режиме выражают свою оптическую сущность как свойства этого Dasein'а. Но неаутентичное экзистирование вводит в действие не что-то иное, но тот же самый Dasein и те же самые его экзистенциалы. Именно в этом состоит основной мотив «Sein und Zeit», где Хайдеггер старается на тысячи ладов подчеркнуть главную мысль: и в аутентичном Dasein'е и в неаутентичном мы имеем дело с одной и той же инстанцией, с одним и тем же вот-бытием. Самое главное не в том, чтобы осудить неаутентичное и прорваться к аутентичному (хотя это также важно), но в том, чтобы осмыслить как неаутентичный Dasein ответственен за процесс развертывания всей западно-европейской философии от ее греческих досократических высот до бездонного падения в нигилизме Нового времени. И под величественным и ничтожным зданием этой философии и ее последствий (культуры, политики, социальность, идеологии, экономики и т.д.) следует везде и всюду распознавать ее главного героя скрытого под гигантским нагромождением теорий, концепций, идей, систем, учений и религиозных догматов. Позитивность аналитики Dasein'а применительно и к неаутентичному режиму состоит в том, чтобы фундаментально демистифицировать философию и свести ее к той настоящей и главной точке, откуда она черпает свой исток и которая является главным персонажем истории бытия. Вскрывая Dasein там, где он особенно тщательно вуалирует себя, мы отвоевываем возможность для понимания его структуры, и даже если мы имеем дело с неаутентичным режимом, то позитивность состоит в том, что это не просто неаутентичность, но неаутентичность Dasein'а, того самого который может быть и аутентичным. Если бы мы не размотали этот клубок отчуждающих и скрывающих наутентичностей, мы оставались бы в иллюзиях относительно самого Dasein'а и его центральной роли в конституировании мира, мысли, человека, сознания, пространства и времени. Но поняв, что везде, даже когда наименее всего очевидно речь идет о Dasein'е и только о нем, мы сможем расшифровать его послание, которое он посылает самому себе таким необычным способом – через переворачивание собственных экзистенциалов, через самосокрытие под личной das Man'а, через бегство от самого себя, через отречение о собственного бытия. Если фокусировать внимание именно на Dasein'е, то его самосокрытие будет опознано как его косвенное самораскрытие, а значит, позволит подготовить основания для его прямого и полного самораскрытия во взрыве бытия, что должно произойти при переходе к новому Началу философии и осуществления Er-eignis'а.
Dasein и Seyn
В «Sein und Zeit» Хайдеггер еще не приходит к различию написания Sein через «i» и Seyn через «y», как он стал поступать в 30-е годы, в цикле размышлений о проблеме Ereignis'а. Но основные фундаменталь-онтологические ориентации его философии были заложены именно в ранний период. Чтобы более кратко осветить проблему бытия в отношении Dasein'у, можно спроецировать среднего и позднего Хайдеггера на проблематику раннего, и тогда мы получим следующую картину.
В основе мысли Хайдеггера лежит различие между бытием (Seyn) и сущим (Seiende). Это различие является тончайшим, так как сущее (Seiende) есть, и значит, оно, будучи сущим(Seiende), и выражает бытие (Sein), которое иначе никак не может быть определено, кроме как через сущее (Seiende) и то, что сущее есть. Так и поступали древние греки. Двигаясь по этому пути дальше, они перешли от понимания бытия как признака сущего к обобщению этого онтического наблюдения и построению философии, где бытие мыслились не просто как факт того, что сущее (Seiende)есть, но как то общее свойство (koinon), которое присущее всем сущим (Seiende), как сущим (als Seiende). Этот обобщение и есть бытие, неразличимо тождественное с «бытийностью» (ousia, по-гречески, Seiendheit по-немецки). На этом основана вся дальнейшая философская онтология и вся западно-европейская метафизика, которая как бы они ни формулировала вопрос о бытии и какие бы онтологические аргументы она ни принимала или отвергала, всегда остается в границах понимания бытия через сущее. Хайдеггер утверждает, это совершенно верно. Но вместе с тем, именно здесь следует искать какой-то подвох. Понимание бытия через сущее (Seiende), вполне корректное, является вместе с тем истоком колоссального и прогрессирующего заблуждения, болезни длинной в две с половиной тысячи лет, имя которой западно-европейская философия. Рождаясь у досократиков, мысливших бытие через сущее (у Гераклита, Анаксимандра, Парменида), эта онтология завершается в философии Ницше, убедительно демонстрирующего нигилизм философии Нового времени. Позже Хайдеггер определит бытие как общего для сущего через Sein, и именно к этой первичной операции сведет катастрофическую историю западной философии, как прогрессирующего забвения о бытии. То бытие, которое является общим для сущего, Sein, есть не бытие как таковое, Seyn, но лишь один из его аспектов, который, будучи взятым эксклюзивно, закрывает возможность понять бытие в полном смысле, как Seyn. Дело в том, что кроме определения бытия как бытия сущего (Sein des Seiende), бытие (Seyn) есть вместе с тем и ничто (Nichts), не сущее (meon), поскольку включает в себя все и не исключает из себя ничего. Именно этим и объясняется конечный нигилизм западной философии и выход на сцену ничто в конце ее истории, тогда как в начале микроскопический зазор между Sein и Seyn был незаметен и, казалось, им можно было пренебречь. Seyn есть Sein, но есть также и das Nichts (ничто). Вторая часть предыдущей фразы – «но есть также и das Nichts (ничто)» -- давала о себе знать через имплицитную разрушительность работы человеческого логоса, все более отчуждающей сущее от его бытия и все более заменяющего его пред-ставлениями (идеями, концепциями, тварными иерархиями, субъектом и объектом, априориями и т.д.). Таким образом, неверно понятое Seyn, сведенное к Sein, пыталось напомнить о реальных пропорциях через вначале имплицитный, а в конце Нового времени эксплицитный нигилизм человеческого (западно-европейского) мышления.
Так как этот цикл завершился, Хайдеггер предлагает перейти к новому Началу и помыслить Seyn напрямую, не через сущее (Seiende), а иначе. Как иначе?
Этому служит Dasein как фундаментальное основание новой философии, как стартовая позиция построения фундаменталь-онтологии.
Dasein, с одной стороны, есть сущее (Seiende). Но это не одно сущее среди сущих, так как оно есть то сущее, которое является бытием сущего, поэтому в слове Dasein, присутствует Sein, а не Seiende. Dasein это не Da-Seiende. Прямое обращение к слову не филологическая игра, но прорыв к фундаменталь-онтологии, движение к построению нового языка это фундаменталь-онтологии. И первым и главным элементом этого языка является именно Dasein. Будучи сущим Dasein, фундаментально отличен от других сущих, так как он первичен для них – вне Dasein'а вообще не возможно вынести заключение о наличии или отсутствии сущего, так как именно Dasein называет сущее сущим, само сущее как таковое, возможно, не догадывается, что оно сущее. Поэтому-то человек есть животное, имеющее логос, говорящее животное. Называя сущее сущим, Dasein вводит в игру бытие (Sein).
Хайдеггер пишет в одном месте(39-1) о том, что бытие (Sein) ведет борьбу с сущим (Seiende). Dasein – это то сущее, которое находится в этой борьбе на стороне бытия.
Бытие как Seyn в отношении сущего (Seiende) выступает как ничто, так как с ним не совпадает. Dasein через свое «da» («вот») является высветлением бытия (Seyn), его сбыванием. Тем самым Dasein подрывает сущее как воспринимающее свое бытие выражением бытия как общего для всего сущего, т ем самым ничтожит (уничтожает) его, но через свое аутентичное экзистирование Dasein вместе с тем восстанавливает сущее в бытии (Seyn), привлекая его к соучастию в событии, сбывании (Ereignis). Поэтому Хайдеггер пишет (40): «вначале необходимо провести разделение (между Seyn и Seiende) и выяснить его, а затем его же и предолеть.» Обе эти операции осуществляются через Dasein, Dasein'ом и в Dasein'е; более того, они и есть форма экзистирования аутентичного Dasein'а.
Таким образом, Dasein, введенное в «Sein und Zeit», становится ключевым понятием для всей философии Хайдеггера и лежит в основе фундаменталь-онтологии и ее нового метаязыка.
Часть 6. Zeit-время и его горизонты
Введение выражения Zeit-время
Чтобы даже приблизительно понять философский подход Хайдеггера к проблеме времени, надо начать с того, что семантика и этимология немецкого слова Zeit фундаментально отличается от семантики и этимологии русского слова «время». Причем настолько фундаментально, что следует задаться вопросом, а корректно ли вообще переводить «Sein und Zeit» на русский как «Бытие и время», не говоря уже калькировании связанных с корнем Zeit образований или созвучных слов в философии Хайдеггера (например, zeitigen). В отношении бытия так остро проблема не стоит, так как и в славянских и в германских языках корни, связанные с бытием, так или иначе восходят к общим индоевропейским праистокам, имеющим две формы -- *bhū- (с изначальным значением «расти») и *es- (со значением «быть», «иметься», «наличествовать»), которые слились в спряжение одного и того же глагола, имеющего формы, образующиеся от разных основ (это есть и в немецком и в русском). Но вот со словом Zeit и латинским tempus (откуда франзуское le temps, английское time и т.д.) все обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что Zeit происходит от индо-европейского корня *dá(i), что означает «рубить», «делить», «отделять одно от другого», «разрывать». Такое же значение имеет и латинская основа. Русское слово «время» образовано от корня «вертеть» и по значению связано с непрерывностью, повторением, связыванием (веревкой) одного с другим. Германское «Zeit» (и латинское tempus) разделяют, разрубают на мгновение, а русское «время», напротив, соединяет, связывает, крутит, в каком-то смысле повторяет. Отсюда немецкое zeitigen означает буквально предопределять старт, приводит в движение (предполагается, одноразовым образом), вызывать появление плодов, чтобы их модно было бы сорвать. Производные от русского «времени» по определению не могут иметь сходного смысла – «временеть», «повременить», это напротив, сохранять как можно дольше плод на ветке, в связи с деревом, а также не спешить с цветением, созреванием плодов и т.д.
Это создает серьезные трудности для того, чтобы понимать Хайдеггера, важнейшей задачей которого является привести концепты старой философии к исконному значения слов и на этом основании, уже отталкиваясь от них, как от прямой речи Dasein'а о Sein, выстроить новый метаязык. Zeit играет в этом языке центральное значение, но остановка вместо Zeit русского слова «время» навсегда блокирует для нас саму возможность понимания Хайдеггера. Поэтому снова было бы самым корректным сохранить немецкое слово в русском тексте и везде писать «Zeit». Главная книга Хайдеггера, которую мы сейчас разбираем на русском в таком случае имела бы такое название «Бытие и Zeit». Само звучание похоже на лязг остро наточенного ножа -- Zeit. В русском же время звучит мягкий убаюкивающий настрой колыбельной.
Но как и в случае с «пониманием», все же следует пойти по иному пути и предложить дико выглядящее выражение «Zeit-время», то есть время поканчивать с верчением, время конца времени, время, не вьющееся, а перерезанное, время-мгновение, время-молния. Поэтому «Sein und Zeit» мы переводим как «Бытие и Zeit-время».
Конечность Zeit-времени
Самое главное в хайдеггеровском понимании Zeit-времени — это то, что оно не является свойством ни объекта (как думали эмпирики и материалисты), ни субъекта (как думал Кант). Dasein существует не в Zeit-времени, и Zeit-время не является также и модусом субъекта. Zeit-время не находится вне Dasein'а, оно находится в Dasein'е. Но у Dasein'а нет измерений, нет пространства, как Пространственность (Raumlichkeit) является его экзистенциалом. Zeit-время поэтому надо понимать как бытие. Dasein в каком-то смысле есть Da-Zeit. Поскольку Dasein конечен, — это принципиальное его качество, — то конечно и Zeit-время.
Хайдеггер оспаривает бесконечность Zeit-времени. Zeit-время не может быть бесконечным, так как определение Zeit'а есть разделение, разрубание, членение. Это членение есть разрыв, а не соединение, разлом, а не склеивание. Бытие не может быть помещено в Zeit-время, так как оно первичнее разлома, и скорее совпадает с ним как фундаментальная конечность. Поэтому Zeit-время не является a priori, предшествующим Dasein'у, но совпадает с Dasein'ом, если тот экзистирует аутентично. Как только Dasein заканчивается, не остается ни субъекта, ни объекта, ни Zeit-времени. Но Dasein заканчивается тогда, когда он становится бытием к смерти (Sein zum Tode), смотрящим ей в глаза. Это происходит через Ereignis. Но через Ereignis и осознание Dasein'ом своей конечности и вступает в работу Zeit-время.
Важно, что в отличие от пространства, которое является экзистенциалом Dasein'а, Zeit-время экзистенциалом не является, оно в некоторым смысле глубже и фундаментальнее даже экзистенциала, а также проблематичнее его. В Zeit-времени выступает само бытие как Seyn. Поэтому в отличие от перманентно присущих Dasein'у экзистенциалов Zeit-время уникально и одноразово.
Три экстаза Zeit-времени
Выступление Seyn'а через Zeit-время Хайдеггер интерпретирует как три формы исступления, по-гречески extasiz. Zeit-время ис-ступает из себя в трех экстазах.
Первый экстаз Zeit-времени связан с бывшим, второй – с настоящим, третий – с будущим. Самый важный экстаз среди этих трех связан с будущим. Это – третий экстаз Zeit-времени.
Смысл Dasein'а — это набросок воли к тому, чтобы быть и к тому, чтобы мочь быть (Seinkonnen). Это постоянный, концентрированный проект экзистирования Dasein'а в сторону его аутентичности. Предельным горизонтом этого наброска является прыжок (Sprung). Это -- прыжок Dasein'а в Sein.
Фундаменталь-онтологически понятое Zeit-время – это Zeit-время, чье исступление содержится в будущем. В той степени, в каковой Dasein есть бытие, в той степени и открывается это бытие исступления в будущее. Zeit-время становится развертывающимся из точки будущего. Именно она конституирует остальные горизонты.
Zeit-время соотносится с вопросом Dasein'а о том, как существует бытие (Seyn). В экстазе будущего бытие (Seyn) будет (wird wesen), то есть будет быть именно как бытие (Seyn), а не как сущее и онтологические конструкты на нем основанные. Поэтому Zeit-время развертывается и несет в себе события не само по себе, но его развертывает Dasein в своем решении к аутентичному экзистированию. Это означает, что будущее есть горизонт нового Начала, момент Ereignis’а, в котором бытие в полной мере начинает быть.
Этот момент Ereignis'а не может не быть и в других горизонтах Zeit-времени (в настоящем и бывшем), так как если бы это было так, что ни настоящего ни бывшего не было бы. А раз они есть и были, то они так или иначе связаны с моментом будущего. Тем, что соединяет эти три экстаза в экзистировании, является сам Dasein, который, хотя и еще не экзистирует аутентично (иначе будущее стало бы настоящем и прошлым), то есть экзистирует неаутентично, но все же экзистирует и тем самым, пусть обратным образом, через умолчание и неаутентичность, соучаствует в бытии, то есть есть.
Хайдеггер разделяет бывшее от прошедшего, настоящее, от того, что есть сейчас, и будущее от грядущего. В каждом экстатическом горизонте Zeit-времени есть связь с бытием Dasein'а, что и выражено наличием самого Dasein'a, и есть сокрытие этой связи. Связь – как несокрытость, aleqeia, истина бытия (Seyn) – конституирует онтическое ядро горизонтов: это бывшее, то что есть и то, что будет. По настоящему есть и было только то, что будет (в будущем Sein=Seyn), но то, что было и есть экстатически предвосхищает это, и в той мере, в какой это предвосхищение действительно, оно было и есть. Но все три горизонта имеют и иную модальность – неаутентичную. Среди всего того, что прошло, что принадлежит прошлому, было , было бывшим, только самое главное, самое тайное и самое неочевидное, а остальное было просто прошедшим, и как таковое оно принадлежит только прошедшему, и в какой-то мере, хотя и оно и было в прошлом, его не было.
Точно также и с настоящим: то, что происходит в настоящем – это продолжение «ходьбы» -- прошло (произошло), происходит, грядет (будет идти дальше). Эта ходьба горизонтов находится в сложных отношениях с бытием горизонтов. Что-то из прошлого было, а что-то прошло, то есть что-то было бывшим, а что-то только прошлым.
Точно также и в настоящем и в грядущем, которое может стать будущим, а может просто грядущим. В этом состоит самый нерв Dasein'а. Dasein, по Хайдеггеру, должен сделать фундаментальный выбор – между грядущим и будущим, то есть выбор об аутентичном экзистировании и вопрошании бытия (Seyn) напрямую, тогда грядущее станет будущим. Если же он сделает выбор в пользу неаутентичного экзистирования, тогда грядущее будет только грядущим, а значит, его не будет.
Прошлое, преходящее и грядущее составляют собой три неаутентичных экстаза Zeit-времени в трех горизонтах. Прошлое в этой цепочке совершенно не понятно для происходящего, а то, в свою очередь, для грядущего. Вместо истории бытия (Seinsgeschichte) совокупность трех горизонтов неаутентичного экзистирования составляет бессмысленный слепок тщеты.
И наоборот, группа трех аутентичных экстазов Zeit-времени порождают ту линию бытия (Seyn), которая делает все три горизонта современными друг другу. То, что было в бывшем, не может никуда исчезнуть, так как Zeit-время не предшествует Dasein'у, а следовательно, то что есть как имеющее отношение к бытию (Seyn) не может не быть, раз уж оно уже было. Поэтому бывшее есть сейчас. Хайдеггер описывал это как мгновенность и почти симультанность, синхронизм подлинной мысли: каждая философская эпоха имела свои вершины, и хотя одну вершину от другой отделяют века, они отделены друг от друга мгновениями и осмысляют себя современниками, так как по-настоящему серьезная мысль – мысль о бытии – одного мыслящего подхватывается другим мыслящим как наиболее актуальная, не по измерению близости в логике Zeit-времени, но по измерению глубины. Для глубокого мышления современным является только глубокое, к какому бы горизонту оно ни принадлежало, а самым современным и глубоким является будущее, как исполнение экстаза Zeit-времени в форме молниеносного одноразового и конечного Ereignis’а.
То, что было – то есть. И то и другое суть приготовление того, что будет, но то, что будет, в той степени, в какой оно будет, уже есть и превращает прошлое в бывшее, а преходящее в то, что есть.
Сноски
1) Heidegger M. Sein und Zeit (1927), Max Niemeyer verlag, Tubingen, 2006. Русский перевод Бибихина (Хайдеггер М.Бытие и время, М.,1997) читать категорически не рекомендую, полный провал, лучше ничего, чем это. Не знающим немецкого, но интересующимся Хайдеггером лучше все-таки немецкий выучить, на самый крайний случай можно воспользоваться французскими или английскими переводами. Приемлемы французский перевод Эммануэля Мартино (Heidegger, Martin Être et temps, traduction d'Emmanuel Martineau, Paris, Authentica, 1985) и английский (как ни странно довольно корректный и внятный, несмотря весьма слабую адаптивность английского языка к серьезной философии) Джона Маккуаэйра и Эдварда Робинсона (Martin Heidegger. Being and Time., Translated by John Macquarrie & Edward Robinson New York: Harper & Row, 1962). Есть хороший румынский перевод Лиичеану и Чоабы, неудачный испанский Хосе Гаоса и чуть получше Хосе Эдуаро Ривьеры. Есть два турецких перевода, последний принес переводчику Каану Октену премию «перевод года» в 2008. Существует хороший итальянский перевод Альфредо Марини. Есть также датский (Væren og tid) и голландский (Zijn en tijd) переводы. Хайдеггер переведен на финский (Oleminen ja aika). Из славянских языков (rhjvt heccrjuj) существует чешский перевод (Bytí a čas).
2) Ранние феноменологические работы собраны в следующих томах полного собрания сочинения (Heidegger M. Gesamtausgabe, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein) Bd. 1 Frühe Schriften. (1912-16), Bdd. 56/57 Zur Bestimmung der Philosophie, Bd.58 Grundprobleme der Phänomenologie. (1919), Bd. 59 Phaenomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbildung. (1920), Bd.60 Phänomenologie des religiösen Lebens, Bd 61 Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles: Einführung in die phänomenologische Forschung.(1921), Bd. 62 Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zur Ontologie und Logik. (1922), Bd. 63 Ontologie: Hermeneutik der Faktizität.(1923), Bd. 17 Einfuerung in die phaenomenologische Forschung; AKA Der Beginn der neuzeitlichen Philosophie. (1923).
А тексты написанные непосредственно перед выходом «Sein und Zeit» и развивающие отдельные темы из будущей главной книги Хайдеггера Bd. 64 Der Begriff der Zeit. (1924), Bd. 18 Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie. (1924), Bd. 19 Platon: Sophistes. (1924), Bd. 20 Prolegomena zur Geschite des Zeitbegriffs. (1925), Bd. 21 Logik: Die frage nach der Wahrheit. (1925), Bd. 22 Grundbegriffe der antiken Philosophie. (1926),, Bd. 23 Geschichte der Philosophie von Thomas v. Aquin bis Kant. (1926), Bd. 24 Die Grundprobleme der Phänomenologie. 1927.
3) Heidegger M. Brief über den Humanismus (1946). Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1949
4) Heidegger M. Geschichte des Seyns (1938/1940). Gesamtausgabe Bd 69, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1998
5) На эти работы мы опирались в Первом и частично во Втором разделе данной книги. Это M.Heidegger Einfuehrung in die Metaphysik, Tuebingen, 1953. Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Gesamtausgabe Bd 69, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1998; Heidegger M. Uber den Anfang. Gesamtausgabe Bd 70, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2005 и, пожалуй, самая главная работа того периода Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1989, изданная, правда, по завещанию автора совсем недавно, уже после его смерти.
6) Heidegger M., , Nietzsche I. 1936- 39, Nietzsche II. 1939-46, Gesamtausgabe Bd 6, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1996; Heidegger M.Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst 1936, Gesamtausgabe Bd 43, 1985; Heidegger M. Nietzsches Metaphysische Grundstellung im abendländischen Denken: Die ewige Wiederkehr des Gleichen. 1937, GA, Bd.44, 1986; Heidegger M. Nietzsches II. Unzeitgemässe Betrachtung. 1938, Bd. 46, 1989; Heidegger M.Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht als Erkenntnis. 1939, Bd. 47, 1989; Heidegger M.Nietzsche: Der europäische Nihilismus.. 1940, Bd. 48, 1986; Heidegger M. Nietzsches Metaphysik (1941-2). Einleitung in die Philosopie - Denken und Dichten (1944-45), Bd. 50, 1990.
7) Основные работы позднего Хайдеггера из полного собрания сочинений (Heidegger M. Gesamtausgabe, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein). Bd 8 Was heisst Denken? (1951-52), Bd. 10 Der Satz vom Grund. (1955-56), Bd. 11 Identität und Differenz. (1955-57). Bd. 12 Unterwegs zur Sprache (1950-59), Bd.14 Zur Sache des Denkens (1962-64), Bd. 15 Seminare. (1951-73). Особняком стоит книга «Holzwege» (Heidegger M. Holzwege, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2003), содержащая ключевые для понимания Хайдеггера тексты о философии и поэзии.
8) Heidegger M. Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet. 1931, Gesamtausgabe, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, Bd. 34, 1988
9) Heidegger M. Geschichte der Philosophie von Thomas v. Aquin bis Kant. 1926. Gesamtausgabe, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, Bd. 22, 1993
10) Heidegger M. Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. 1928. Gesamtausgabe, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, Bd. 26, 1978
11) Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. 1929, Gesamtausgabe, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, Bd. 3, 1991 и Heidegger M. Phänomenologie Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft, Gesamtausgabe, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, Bd. 25, 1990
12) Heidegger M. Der Deutsche Idealismus (Fichte, Hegel, Schelling) und die philosophische Problemlage der Gegenwart. 1929. Gesamtausgabe, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, Bd. 28, 1997
13) Heidegger M.. Hegels Phänomenologie des Geistes. 1930 Gesamtausgabe, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, Bd. 32, 1980
14) См. сноску 6)
14-1 Heidegger M. Sein und Zeit , op. cit. S. 119
15) Анри Корбен (Henri Corbin) крупнейший французский философ, историк религии, специалист в иранской и исламской философии, мистике, поэзии. См. Corbin H. Le paradoxe du monothéisme, Р., l'Herne, 1981; Corbin H.Temps cyclique et gnose ismaélienne, Р., 1982., Corbin H.Face de Dieu, face de l'homme, Р., Flammarion,1983, Corbin H.Philosophie iranienne et philosophie comparée, Р., Buchet/Chastel,1979, Corbin H.Corps spirituel et Terre céleste: de L'Iran mazdéen à l'Iran shî'ite, Р., Buchet/Chastel,1979; Corbin H.Histoire de la philosophie islamique, Р., Gallimard, 1964;. Corbin H.L'homme de lumière dans le soufisme iranien, Р., Éditions « Présence », 1971.
16) Corbin H.L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabî, 2e éd., Р., Flammarion, 1977
17) Durand Gilbert Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, Paris, 1960
18) Ницше Ф. Мы филологи // Философия в трагическую эпоху. – М.: REFL-book, 1994.
– С.267-325.
19) Heidegger M. Sein und Zeit , op. cit. S. 175
20) Там же S. 52 и S.S.130-134
21) Там же.
22) ТАм же S. 117
23) Там же SS.180-200
24) Там же S. 134
24-1 Там же S. 140
25) Там же, S.148
26) Там же, S.160
26-1 Там же. 165
27) Там же S. 127
28) Там же S. 175
29) Там же S. 167
30) Там же S. 170
31) Там же S. 173
32) Там же S. 126
33) Там же S. 128
34) Там же S. 129
35) Там же S. 110
36) Там же S. 114
37) Там же S.S. 231-267
38) Там же S. 274
39) Там же S. 277
40) 39-1) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 1989, S.249
41) Ibidem S.251
М.Хайдеггер
К чему поэты?(0)
«… И к чему поэты в скудные времена?». Этот вопрос задает Гельдерлин в своей элегии «Хлеб и вино». Сегодня мы с трудом понимаем смысл этого вопроса. Так как же нам понять смысл ответа, который дает на него Гельдерлин?!
«… И к чему поэты в скудные времена?». Слово «времена» указывает на ту мировую эпоху , частью которой мы являемся. Для исторического опыта Гельдерлина вместе с приходом и жертвой Христа начался конец дня богов. И наступил вечер. После того, как «три настоящих» -- Геракл, Дионис и Христос -- покинули этот мир, вечер мировой эпохи стал клониться к ночи. Ночь мира распростерла свой мрак. Отныне эпоха определяется удалением бога, «отсутствием бога». Это «отсутствие бога», остро переживаемое Гельдерлином, не отменяет сохранения христианского отношения к Богу у отдельных индивидуумов и церквей. Гельдерлин не обесценивает этих отношений. «Отсутствие бога» означает, что больше никакой бог не собирает ясно и прозрачно вокруг себя людей и вещи мира, предопределяя таким упорядочиванием и отталкиваясь от такого собирания историю(1) мира (2), человеческое пребывание в этой истории. Отсутствие бога означает еще и нечто худшее. Не только бог и боги скрылись, но и сияние божественности потухло в мировой истории. Время ночи мира – это скудные времена, и это время становится все более и более скудным. Оно становится настолько скудным, что неспособно даже воспринять отсутствие бога как отсутствие.
Но с этим отсутствием недостатком открывается и недостаток основания самого мира, пропадает его основательность. Слово «бездна» (Abgrund) означало первично почву и платформу, к которой крепится снизу то, что подвешено к краю пропасти. Но позже «бездна» стала означать полное отсутствие твердой почвы, основания. Почва – это место корней и опора для стояния. Мировая эпоха, у которого нет основания, подвешена в бездне. Представить себе, что в скудные времена еще возможен поворот, мы можем только, если допустить, что мир снова коснется основания, но это значит, что изменение курса (3) возможно исключительно отправляясь от бездны. В мировую эпоху ночи мира, ночь мира должна быть испытана и выставлена на созерцание. Но для этого необходимы те, кто достигнут дна бездны.
Поворот этой мировой эпохи не может случиться через внезапное вторжение нового бога или через возвращение старого, восстающего из своей сокрытости. К чему обратится он в своем возвращении, если люди не подготовят прежде для него местопребывания? И как местопребывание бога сможет вместить его, если сияние его божественности прежде не залило своим светом все, что есть?
Боги, которые «были раньше», вернутся в «надлежащее время»; т.е. тогда, когда люди предуготовят достойные и верно распределенные места. Вот почему Гельдерлин в незаконченном гимне «Мнемозина», который был написан позже, чем «Хлеб и вино» говорит:
«Небесные могут не все. Смертные вот могут
скорее достигнуть бездны. Им же
поворот предназначен. Долго тянется
время, но все же достигает оно однажды
истинного»
Долго тянется скудное время мировой полночи. Вначале оно должно, медленно, достичь своей середины. В середине этой ночи, скудость времен максимальна. Нищая эпоха даже не способна почувствовать больше свою нищету. Эта неспособность, когда затемняется сама скудость скудости, это и есть самая крайняя точка скудных времен. Скудость настолько затемняется, что пытается полностью скрыть свою скудость. Надо мыслить ночь мира по ту сторону пессимизма и оптимизма, как нашу судьбу. Так, видимо, ночь мира приближается сейчас к своей полночи. Возможно, век станет теперь полностью и исключительно скудными временами. А может быть пока еще нет, еще не сейчас, всегда это «еще не сейчас», несмотря на неизмеримую нужду, на все страдания, вопреки немыслимой нищете, несмотря на полное отсутствие покоя и мира, не смотря на растущий хаос. Долго тянется время, так как даже ужас, понятый как единственное основание для поворота, ни на что не способен, пока смертные не сделают поворот сами. Но этого поворота они не сделают, пока не обретут в повороте своей собственной сущности. А это зависит от того, смогут ли они достичь дна бездны быстрее, чем небесные сущности. Смертные, если мы помыслим их в их собственной сути, ближе к от-сутствию (4), потому что они выступили из при-сутствия , именуемого с давних пор «бытием»(5). Но когда присутствие скрывается, наступает собственно отсутствие. Так бездна охраняет и отмечает собой все. В своем «Гимне Титанов» (IV,210) Гельдерлин именует «бездну»: «та, что помечает собой все». Тот смертный, кому удастся достичь бездны быстрее остальных и иным образом, чем остальные, познает отметку бездны, которой та помечает. Для поэта -- это знаки следы ушедших богов. По выражению Гельдерлина, это Дионис, бог вина, оставляет смертным, потерявшим богов, посреди своей ночи, такой след. Потому что бог виноградной лозы сохраняет в этой лозе и ее ягодах изначальную взаимопринадлежность неба и земли, как место брачного праздника богов и людей. Только в этом месте из всех возможных могут остаться без-божным людям, следы убежавших богов.
« … и к чему поэтому в скудные времена?». Гельдерлин отвечает робкими словами их уст своего друга поэта Гейне, которому был адресован вопрос:
«Но они, как ты говоришь, как священные жрецы, посвященные богу вина,
что из страны в страну бредут по священной ночи».
Поэты – это те из смертных, которые, воспевая торжественно бога вина, следят за следами убежавших богов, идут по их следу, очерчивая другим смертным, своим братьям, путь к повороту. Боги суть боги только в эфире, это их божественность. Стихия эфира, в которой божественность существует(6) (west), священна. Стихия эфира, священное – вот след убежавших богов, по которому им предстоит вернуться. Но кто из смертных способен выследить эти следы? Эти следы часто невидимы и всегда наследство с трудом представимого существования. Быть поэтом в скудные времена значит: воспевая песнь, следить за следами убежавших богов. Вот почему во время ночи мира поэт сказует (7) священное. Вот почему в языке Гельдерлина, ночь мира – это «священная ночь».
К самой сущности поэта, который является подлинным поэтом в эту эпоху, относится то, что в силу сущностной нищеты века состояние поэта и призвание поэта становятся для него поэтическим вопросом. Поэтому «поэты в скудные времена» должны выразить поэтически сущность поэзии. Там где это происходит, мы сталкиваемся с такой поэзий, которая предопределена самой судьбой эпохи. Нам же остается только научиться вслушиваться в высказывания таких поэтов, если конечно мы не поддадимся на уловки времени, которое скрывает бытие, заставляя нас схватывать время со стороны сущего(8), расчленяя его.
Чем ближе ночь мира приближается к полночи, тем более полновластно правит нищета, таким образом, чтобы ее сущность оставалась скрытой. Теряется не только священное, как след божественности, но стираются даже следы этих потерянных следов. Чем больше эти следы стираются, тем меньше отдельный смертный, достигающий бездны, способен заметить там намек или указание. Тем строже действует закон, согласно которому: тот продвигается дальше других, кто заходит так далеко, как только может по пути, на который он осужден. Третья строфа той же элегии, которая вопрошает « и к чему поэты в печальные времена?» оглашает положение, в котором пребывает поэт:
«Одна вещь остается незыблемой. Приближается ли полдень
или полночь, всегда есть мера,
общая для всех, но каждому присужденная по-своему,
туда идет и приходит каждый, куда только может.»
В письме Белендорфу от 2 декабря 1802 года Гельдерлин пишет: «и философский свет вокруг моего окна – теперь моя радость, смогу ли я сохранить в памяти, как я дошел до этого!»
Поэт мыслит о том моменте, который определяется такой вспышкой бытия(9), что в области завершившейся западной метафизики отлилась в окончательную формулу. Мыслящая поэзия Гельдерлина отметила эту область своей поэтической мыслью. Его стихи пребывают в этой области столь доверительно, как никакая иная поэзия его времени. Пространство, куда вступил Гельдерлин, – это открытость (10) бытия, принадлежащая самой судьбе бытия и этой судьбой поэту данная к осмысления.
Но быть может эта открытость бытия внутри завершенной метафизики воплощает собой также предельное забвение бытия? И что, если именно это забвение является скрытой сущностью нищеты скудной эпохи? Тогда, мы выбрали не подходящий момент для эстетического бегства в поэзию Гельдерлина. Тогда не следовало бы делать из фигуры поэта искусственный миф или искажать его поэтические высказывания, стремясь подогнать их под философию. Но при всем этом остается необходимость: испытать трезвой и строгой мыслью то, что осталось непроизнесенным в сказанном в его стихах. Это путь судьбы (Geschichte) бытия(11). Если мы преуспеем на этом пути, он приведет нашу мысль в исторический (geschichtliche) диалог с поэтическим высказыванием. Это для «историзирующего» (12) литературного исследования покажется антинаучным насилием над тем, что оно числит известными фактами. Диалог для философии видится как беспомощное рассеивание. Но судьба прокладывает свой путь, не обращая на это внимания.
Встречается ли нам, людям сегодняшнего дня, на этом пути поэт? Встречается ли нам поэт, который сегодня постоянно яростно рвется к близости мысли и полупродуманной философии? Зададим этот вопрос более строго, со всей присущей ему строгостью.
Является ли Рильке поэтом в скудные времена? Как соотносится его поэтическое высказывание с нищетой эпохи? До какой отметки он погрузился в бездну? Докуда он дошел, раз поэт должен зайти так далеко, как только сможет?
Отвечающее на этот вопрос стихотворение Рильке находится в двухтомнике, куда входят «Элегии Дуино» и «Сонеты к Орфею». Долгий путь к этим стихам поэтически вопросителен. На этом пути Рильке постепенно все яснее распознает скудность времени. Это время скудно не только потому, что Бог умер, но еще и потому, что смертные едва ли осознают, что они смертны, не могут этого осознавать. Смертные больше не обладают своей собственной сущностью. Смерть скрылась в загадочном. Секрет боли непроницаем. Люди разучились любви. Но смертные суть(13). Они суть пока еще есть язык(14). Песнь все еще парит над скудной землей. Слово певца все еще держит след священного. Песнь из «Сонетов к Орфею» (1часть, XIX) гласит:
«Быстро меняется мир
Как формы облаков.
Всякая завершенная вещь
Возвращается в лоно Древнейшего.
Над изменением и потоком
Все шире и свободнее,
Еще звенит твоя прелюдия,
Бог, держащий в руках лиру.
Страдания не признанны,
Любви не учатся,
И что отдаляет нас в смерти
Остается сокрытым.
Только песнь над землей
Освящает и празднует».
При этом след священного становится неопознаваемым. Вопрос о том, воспринимаем ли мы священное как след к божественности божественного, или нам остался уже только след от самого священного, остается открытым. Остается также непонятным, что такое след следа. Неясно также, как обнаруживает себя такой след.
Скудно время, им утрачена несокрытость сущности боли, смерти и любви. Скудна сама эта скудость, которая удаляется от той области бытия, которой принадлежат и боль, и смерть, и любовь. Сокрытость же есть, в той мере, в какой область их взаимной принадлежности есть бездна бытия. Но остается песнь, которая именует землю. Что такое сама эта песнь? Как смертные способны петь? Отталкиваясь от чего песнь поется? До какой точки она проникает в бездну?
Чтобы выяснить, является ли Рильке поэтом в скудные времена, измерить до какой степени он им является, и чтобы понять-таки «к чему поэты», попробуем оставить некоторые вехи на тропе, ведущей в бездну. Несколько фундаментальных фрагментов из поэтических трудов Рильке послужат нам такими вехами. Эти фундаментальные пассажи могут быть поняты, только отталкиваясь от той области, где они были произнесены. Эта область – истина сущего в том виде, в каком она развернута в завершении всей западной метафизики философией Ницше. Рильке по своему пережил и испытал запечатленную этим завершением несокрытость сущего. Сейчас мы попытаемся посмотреть, как для Рильке показывает себя сущее как таковое в целом(15). Чтобы окинуть взглядом эту область, обратим наше внимание на стихотворение, которое родилось в период пика поэтического творчества Рильке, хронологически несколько позже его.
Мы не готовы к толкованию «Элегий» и «Сонетов», так как область, откуда они исходят – в отношении ее устройства и ее метафизического единства -- еще недостаточно продумана, исходя из самой сути метафизики. Осмыслять эту область трудно по двум причинами: во-первых, потому что поэтическое творчество Рильке по своей исторической орбите идет в смысле последовательности и ранга вслед за Гельдерлином, а во-вторых потому, что мы слабо знаем сущность Метафизики и остаемся неопытными в сказе бытия.
Для толкования «Элегий» и «Сонетов» мы не только не подготовлены, но и не уполномочены, так как область диалога между поэзией и мыслью, открывается, достигается и продумывается чрезвычайно медленно и постепенно. Кто в наши дни может претендовать на то, что чувствует себя одинаково уютно как в природе подлинной поэзии, так и в природе подлинной мысли? И тем более на то, чтобы выставить вовне внутреннейшую сущность поэзии и мысли в их радикальном разногласии, чтобы так прийти к их согласованию?
Стихотворение, которое мы попытаемся объяснить, самим Рильке опубликовано не было. Мы находим его в 8 томе издания «Полного собрания сочинений» 1954 года и в собрании «Поздние стихотворения» 1935 года. Стихотворение без названия. Рильке написал его в июне 1924 года. В письме из Мюзо, от 15 августа 1924 года к Кларе Рильке поэт говорит: «К счастью, я не был пассивен во всех направлениях, так как барон Люциус получил свою «Мальту» перед моим отъездом в июне; ужа давно его благодарственное письмо готово к отправке тебе. Я добавил здесь импровизированные стихи, которые я написал ему в первом томе издания в приятном кожаном переплете».
Импровизированные стихи Рильке, которые он упоминает, согласно издателям этих писем из Мюзо, таковы:
« Как природа оставляет существа
риску их глухих желаний и никого
особенно не охраняет специально в бороздах и ветвях,
так и мы в глубинах нашего бытия
не более любимы; нами рискуют. Разве что мы
еще больше, чем растения или животные,
идем вместе с этим риском, желаем его, и подчас даже
рискуем больше (и не из-за интереса),
чем сама жизнь, на один вздох
рискованней… Это, вне укрытия,
Создает нам уверенность, там, где действует
сила тяготения чистых сил; то, что нас, в конце концов, укрывает,
это бытие без укрытия, и то, что нас в открытое отсылает,
И то, что мы видим вращающимся вокруг него,
Чтобы где-то в еще более широком кругу,
там где нас коснется закон, сказать этому «да».
Рильке называет это стихотворение «импровизированными строчками». Но именно это непредвиденность открывает нам перспективу, в которой мы можем яснее осмыслить поэзию Рильке. То, что поэзия эта также является вопросом мышления, мы осознаем только в это мгновение мировой истории. Мы берем стихотворение как опыт поэтического самоосмысления.
Структура стихотворения проста. Все сочленения прозрачны. Мы имеем четыре части стихи 1-5, 5-10, 10-12, 12-16. В начале «как природа» соответствует в стихах 4-5 «так и мы». Этому «мы» соответствует далее «разве что мы» в строке 5. «Это разве что» ограничивает понятие «мы», отделяя его от другого. В строках 5-10 это уточняется. Строки 10-12 показывают важность такого отделения. А в строках 12-16 осмысляется значение этого различия.
Через «как в природе» и «так и мы» бытие человека становится главной темой стихотворения. Сравнение позволяет определить бытие человека в сравнении с просто «существами». Эти живые существа – растения и животные. В начале 8-ой Элегии в таком же сравнении им дается иное имя – «создания» («твари»).
Сравнение помещает разное в равное, чтобы подчеркнуть их различие. Равны между собой различные -- растения и животные, с одной стороны, и человек, с другой – в том, что их делает тождественными. Это тождество – тождество отношения всех сущих к их основе. Основание существ – это природа(16). Но основание дано человека инаково, нежели растению или животному. Основание и там и там одно и тоже. Это природа как «полная природа» (Сонеты, 2-я часть XIII).
Здесь надо мыслить природу в широком и сущностном смысле, как Лейбниц понимал слово Natura, написанное с большой буквы. Она означает бытие сущего. Бытие есть vis primitive active (первичная действенная сила). Таково начинающее, все в себя собирающее могущество, которая возводит каждое сущее к нему самому. Бытие сущего есть воля(17). Воля – всесоставляющее собирание каждого существа (ens) к нему самому. Всякое сущее как сущее есть в воле. Оно есть волимое(18). Поэтому мы говорим: сущее не только и не в первую очередь есть волимое, но сущее есть, постольку, поскольку оно есть, само в форме воли. Как волимое сущее есть своего рода в воле волящее.
То, что Рильке называет природой, именуется так не из противопоставления истории. Тем более природа понимается здесь не как предметная область естественных наук. Также не противопоставляется природа и искусству. Она есть основание для истории, искусства и природы узком смысле. В таком использовании Рильке слова «природа» еще звучит как эхо, его прообраз -- fusiz, который отождествляется с zwh, что мы привыкли переводить как «жизнь». Однако сущность жизни, как она понималась на заре западной мысли, была не биологической, но воплощала в себе значение fusiz как распускания (Aufgehende). В 9-ой строке стихотворения «природа» также названа «жизнью». Природа, жизнь здесь обозначают бытие в смысле сущего в целом. В заметке 1885-1886 годов Ницше (в «Воле к власти», афоризм 582) писал: «Бытие - у нас нет иного представления об этом, кроме как «жизнь». Как же нечто мертвое может «быть»?
Рильке называет природу в той мере, в какой она есть основание сущего, которым являемся мы сами, праосновой (Urgrund). Это указывает на то, что человек в больше мере, чем все остальные существа, пускает свои корни в основание того, что есть(19). С давних пор основание сущего называют бытием. Отношение бытия, которое обосновывает, к сущему, которое обосновывается, одинаково и у человека, и у растения, и у животного. Оно состоит в том, что бытие выставляет сущее стихии риска, предоставляет его «риску» (Wagnis)(20). Бытие выпускает сущее в риск, освобождая его. Это освобождение, бросающее сущее, отпуская его в приключения, это и есть риск. Бытие сущего -- отношение броска к сущему. Всем сущим рискуют. Бытие – это и есть сам риск по преимуществу. Оно рискует нами, людьми. Оно рискует живыми существами. Сущее есть в той мере, в какой им постоянно снова и снова рискуют. Сущее остается рискованным в бытии, т.е. в риске. Вот почему сущее и само рискует, предоставлено риску. Сущее есть в той мере, в какой оно движется в риске, которому предоставлено. Бытие сущего есть риск. Риск основан в воле, которая, вслед за Лейбницем, все более и более точно обнаруживается как бытие сущего, открывающегося в метафизике. Воля, которую здесь надо осмыслять, не является обобщением психологических желаний. Напротив, воля человека, метафизически понятая, есть ничто иное, как волимое отражение воли как бытия сущего. Когда Рильке мыслит природу как риск, он мыслит метафизически, исходя из сущности воли. Эта сущность пока еще скрыта -- и в воле к власти (могуществу), и в воле как риске. Воля есть как воля к воле.
Стихотворение ничего непосредственно не говорит об основании сущего, т.е. о бытии как риске по преимуществу. Но раз бытие как риск есть отношение отпускания и одновременно поддержание того, чем рискуют, в его отпущенности, то стихотворение многое говорит нам непосредственно о риске, хотя и через повествование о том, чем рискуют.
Природа рискует существами и «никого из них не защищает в особенности». Также и мы, люди, как те, кем рискуют, «не более дороги» риску, который рискует нами. И там и там общее правило: риску принадлежит то, что вброшено в область опасного. Рисковать – это вводить в игру. Гераклит мыслит бытие как время мира, и он понимает это как игру ребенка (фрагмент 52): aiwn paiz esti paizwn, pesseuwn: paidon hJ basilhih . «Время мира это ребенок, играющий в кости; игра ребенка – господство». Если бросание было бы безопасным, оно не содержало бы в себе риска. Однако сущее было бы вне риска, если бы оно было защищено. В немецком языке «schuetzen» («защищать», «укрывать»), родственно «schiessen» («быстро расти»). «Schiessen» же означает «schieben» («толкать», «задвигать»): например «задвинуть запор». Крышу делают раньше стен. В немецких деревнях еще говорят: «крестьянка посадила слепленное тесто в печь», имея в виду «за-толкнула» его туда. Укрытие, Schutz, есть за-ведомо и за-ранее «за-толканное». Оно защищает того, кому угрожает о-пасность, от того, что может на него на-пасть. Укрываемый доверяется укрывающему. Наш старый и более богатый язык имел другие формы: «verlaubt», «verlobt» («обрученный») – «geliebt» («возлюбленный»). «Не укрываемый» значит больше «не люб», «нелюбим»(21). Растение, животное, человек, в той мере, в какой они являются сущими, т.е. в той мере, в какой ими рискуют, в равной мере совпадают в том, что они не защищены. Но так как они различаются в своем бытии, между ними должны быть различия и в их бытии без укрытия.
Незащищенные суть те, кем рискуют. Но это не значит, что они оставлены на произвол судьбы. Если бы они были оставлены, ими рисковали бы также мало, как если бы они были защищены. Будучи обреченными на уничтожение, они не лежали бы на весах. Слово весы («Wage») в средние века означало в немецком «опасность»(22). Это ситуация, когда все может склониться в ту или иную сторону. Поэтому прибор, который действует таким образом, был назван «весами». Весы участвуют в игре, играют. Слово «Wage», как «опасность», так и «инструмент», происходит от глагола «waegen», «wegen», т.е. «прокладывать путь» («Weg»), дорогу, т.е. «идти», «быть в движении». «Bewaegen» означает «собираться в дорогу», «пускаться в путь, в движение», а также «весить» («wiegen»). То что весит, называется так, потому что его вес сдвинуть игру весов в ту или иную сторону. То, что весит, имеет вес («Gewicht»). Рисковать («wagen») означает: вводить в ход игры, класть на весы, оставлять опасности. Тем, кем рискуют, находится без укрытия, но так как он находится на весах («Wage»), он остается удерживаемым риском («Wagnis»). Он несом им. Он своим основанием храним риском. Будучи сущим, то, чем рискуют (Gewagte), есть волимое (Gewollte). Оно остается, удерживаемое волей, само в аспекте воли и поэтому рискует само собой, отваживается. Так, что тот, кем рискуют, может не беспокоиться по этому поводу, быть sine cura, securum, т.е. в «безопасности». В той степени, в какой то, чем рискуют, находится в безопасности в риске, оно может следовать за этим риском, продолжая пребывать в беззащитности рискованного. Беззащитность того, кем рискуют, не только не исключает безопасности в своем основании, но предполагает ее как нечто необходимое. Тот, кем рискуют, со-движется вместе с риском.
Бытие, которое держит все сущее на весах, постоянно привлекает сущее к себе самому, как к центру. Бытие, как риск, содержит все сущее, как то, чем рискуют, в этом положении. Одновременно центр этого притягивающего положения ускользает от всего сущего. Таким образом центр предоставляет сущее риску, делает его тем, чем риcкуют. В этой собирающей оставленности скрыта метафизическая сущность воли, мыслимая со стороны бытия. Центр сущего, будучи привлекающим и опосредующим все, есть могущество, которое придает вес (т.е. тяжесть) тому, xем рискуют. Риск – это сила тяготения. Позднее стихотворение («Сила тяготения») говорит об этом:
Сила тяготения
Центр, ты удаляешься от всего,
Но из всякого полета, ты снова отвоевываешь себя, центр,
Становишься сильнейшим.
Стоящий вертикально: как глоток для жаждущему
пронзает тебя сила тяжести.
Однако, из спящего падает,
Как тяжелая туча,
Богатый дождь тяжести..
Тяжестью назван здесь в отличие от физической гравитации, о которой постоянно говорится, центр сущего в целом. Вот почему Рильке называет ее «неслыханная середина» (Сонеты, 2 –я часть, XXVIII). Она есть основание (Grund) как союз «c», который соединяет вещи друг с другом и собирает их в игре риска. Неслыханная середина – это «вечная со-актрисса» в мировой игре бытия. То же стихотворение, в котором бытие воспето как риск, называет (в строках 11 и 12) опосредующие отношения: «тяжесть чистых сил». Чистая сила тяготения, неслыханный центр всякого риска, вечная со-актрисса в игре бытия -- вот что такое риск.
В той мере, в какой риск отпускает то, чем рискует, он вместе с тем удерживает его на весах. Риск отпускает и освобождает того, кем рискует, но таким образом, что отпущенное отпускается притягиваться к центру. Тот, кем рискуют, снабжается этим притяжением к центру. В этом притяжении риск снова и снова подбирает того, кем рискует. Собрать что-то, достать это что-то откуда-то и отнести куда-то, заставить появиться где-то мы называем это – от-ношением (es beziehen). Вот первый смысл термина «Bezug» – от-ношение (23). Если мы говорим об отношении товаров, обслуживания, потока. Притяжение, которое в качестве риска, подступает к сущему, за-трагивает его и принимает его в этом броске -- вот смысл отношения. Слово «Bezug» («отношение») это фундаментальный термин в поэтическом труде Рильке в разных вариациях – «чистое отношение», «цельное отношение», «реальное отношение», «более ясное отношение», «иное отношение» (т.е. то же самое отношение, но под другим углом зрения ).
Мы понимаем термин Рильке «Bezug» только наполовину, т.е. в данном случае вообще не понимаем, если не соотнесем его со значением «Beziehung» в смысле соотношения. Мы только добавим неразберихи, если поймем это как отношение человеческого я к объекту. Такое понимание отношения в истории языка явление совсем новое. Если термин Рильке и несет в себе это значение, оно явно не является главным, но второстепенным, зависимым от первоначального. Выражение «ganze Bezug» («цельное отношение») немыслимо, если «Bezug» понимать только как «реляцию», «релятивное» и «относительное» в этом смысле (24). Сила тяготения чистых сил, неслыханная середина, чистое отношение, цельное отношение, полная природа, жизнь и риск это все одно и то же.
Все эти имена называют сущее как оно есть в целом. Метафизика, в ее обычном выражении, называет это «бытием». Согласно стихотворению, природу надо мыслить как риск. Слово «риск» называет здесь одновременно и рискующую основу (Grund) и того, кем рискуют в целом. Такая двусмысленность не случайна, но недостаточно лишь отметить ее. В ней со всей ясностью говорить язык метафизики.
Все, чем рискуют, будучи по отдельности, тем или иным сущим, скреплено со всем сущим и покоится на основании целого. Сущее, всегда будучи сущим тем или иным образом, есть всякий раз по мере его притяжения, поддерживающего его в притяжении к цельному отношению(Bezug). О природе мы можем составить себе представление, когда будет сказано, как то, чем рискуют, притягивается к середине. В соответствии с этим то, чем рискуют, и попадает в среду сущего в целом.
Цельное отношение, которому всякое сущее, как то, чем рискуют, преподнесено, Рильке называет «открытым» (Offene). Это слово другой фундаментальный термин в его творчестве. В языке Рильке «открытое» означает то, что не запирает. Не запирает? потому что не ограничивает. Не ограничивает потому, что свободно от всяких ограничений. Открытое это великое целое всего того, что свободно от ограничений. Оно вводит существа, которыми рискуют, как притягиваемые, в ход чистого отношения (Bezug), так что они умножаются друг на друга, и не встречая преграды продолжают двигаться. Так двигаясь и двигаясь снова, они восходят в бес-конечности. Они не растворяются в ничтожности ничто, они разрешаются в целом открытого.
То, что Рильке называет таким образом, никак не определяет открытость (Offenheit) в смысле несокрытости сущего, которое выставляет сущее при-сутствующим. Если мы попытались бы понимать открытое у Рильке в смысле несокрытости и несокрытого, мы вынуждены были бы констатировать: то, что Рильке воспринимает как открытое, есть на самом деле закрытое, не-освященное, то, что продолжает двигаться в безграничном так, что не может столкнуться с чем-то необычным, и вообще ни с чем. Потому что там, где что-то встречается, появляется препятствие. Там, где появляется граница, ограниченное теснит само себя и изгибается вокруг самого себя. Ограничение искривляет, запирает отношение к открытому и делает это отношение искаженным. Ограничение в лоне безграничного у-станавливается человеческим пред-ставлением (25). Постановка пред-метов(26) «перед» не позволяет человеку быть непосредственно в открытом. Она некоторым образом исключает человека из мира и ставит его перед миром («мир» означает здесь сущее в целом). Напротив, мировое (Weltische) – это само открытое, полнота не-пред-метного (Ungegenstaendliche). Но само имя «открытое», так же как и слово «риск» в метафизическом смысле, двусмысленно. Оно означает как целое открытых отношений (Bezug) неограниченного отношения (Bezug), так и открытость в смысле царящего повсюду стирания границ.
Открытое позволяет войти. Но это вхождение не означает: дать вход и доступ к закрытому, как если бы нечто сокрытое открылось бы, представ как несокрытое. «Впускать» значит: изымать и связывать с непросветленной полнотой влечения чистого отношения (Bezug). Будучи специфической манерой бытия открытого, вхождение по свойству притягивания есть сила тяготения чистых сил. Чем меньше тому, чем рискуют, запрещен доступ к чистому отношению (Bezug), тем больше оно принадлежит великому целому открытого. Вот почему Рильке называет существ, которые отваживаются вступить в это величие в форме величия и которые укачиваются им: «великопривычные вещи» (die gross gewohnten Dinge) (Spaette Gedichte). Однако человек к таковым не относится. Стихотворение, которое воспевает это отличие остальных живых существ от человека применительно к открытому, это Восьмая Элегия Дуино. Различие состоит в различных уровнях сознания. После Лейбница, различения сущих в этом отношении является обычным в современной метафизике.
То, что понимает Рильке под словом «открытое», можно уяснить из письма, написанного им в последний год жизни (25.2.1926) русскому читателю, спрашивавшего его про восьмую элегию. Рильке пишет: «Вы должны понимать термин открытое, который я старался раскрыть в этой Элегии, так, как уровень сознания зверя помещает его в мир без того, чтобы он (подобно нам, людям) в каждое мгновение ставил бы мир перед самим собой; зверь есть в мире; мы же находимся перед миром, в силу особой специфики и особого устройства нашего сознания.» И Рильке продолжает: «Под «открытым» я понимаю не небо, воздух или пространство, такими, какими они суть для наблюдателя и оценщика, т.е. не предметы, «непрозрачные» и закрытые. Зверь же или цветок есть все это, не отдавая себе в этом отчета, и имея перед собой и над собой эту неописуемо открытую свободу, которая имеет аналог (пусть на мгновение) в первый миг любви, когда человеческое существо открывает в другом, в возлюбленном, свою собственную безграничность или в экзальтации чувства к Богу».
Растение и животное допущены в открытое. Они суть в мире. Это «в» означает: не просветленные, привнесенные в сеть чистого отношения (Bezug). Отношение к открытому – если здесь еще можно говорить об отношении «к» -- здесь неосознанность стремящегося-притягивающегося соединения в целом сущего. Вместе со взлетом сознания, сущностью которого для современной метафизики является представление (Vorstellen, репрезентация), взлетает статус и пред-стояние пред-мета (объекта). Чем выше сознание, тем более исключенным из мира становится сознательное существо. Поэтому человек на языке этого письма стоит «перед миром». Его не допускают до открытости. Человек стоит напротив мира. Он не живет непосредственно в потоке и ветре цельного отношения (Bezug). Место в письме тем более акцентирует понимание открытости, что Рильке однозначно отрицает здесь понимание открытости как открытость неба или пространства. Правильным пониманием открытого был бы смысл сущностно начинающегося освещения бытия, вне поэзии Рильке, который остается пребывать в тени смягченного ницшеанства.
То, что принадлежит непосредственно открытому, захвачено током притяжения к середине. Поэтому к открытому из всех сущих, которыми рискуют, принадлежит больше всего то сущее, которое берется в соответствии со своей собственной сущностью при том, что в этом подбирании существо не стремится ни к чему, что ему могло бы противопоставляться. Тот, кто есть таким образом, пребывает в «глухом желании».
«Как природа передает существа
риску их глухого желания…»
Слово «глухой» означает здесь приглушенность: т.е. то, что не выпадает за пределы потока неограниченной непрерывности, что не обеспокоено постоянным сопоставлением всего со всем, в которое впадает сознательное представление. «Глухой» указывает также на глубокий, низкий звук, который покоится в глубине и служит опорой. Глухое используется здесь не в негативном смысле, не как нечто «низменное» и «греховное». Рильке осмысляет глухое желание не как нечто низкое и посредственное. Это желание указывает на принадлежность «великопривычных вещей» к цельной природе чистого отношения (Bezug). Поэтому-то в одном из своих поздних стихотворений Рильке говорит: «пусть будет для нас великим бытие цветка» (Поздние стихотворения). Как в приведенном отрывке из письма люди и остальные живые существа мыслятся исходя из их различного и определяемого степенью осознания отношения к открытому, так и стихотворение определяет «существ» и «нас», людей, в разнообразных отношениях к риску:
«Так что и мы,
еще больше, чем растение или зверь,
движемся с этим риском».
Из этого можно было бы заключить, что человек в еще большей степени, чем растение или зверь связан с этим риском, и предоставлен открытости еще более непосредственно, чем все остальные существа. Так и следовало бы понимать это высказывание, где ударение падало бы на слово «больше», если бы Рильке не выделил бы курсивом предлог «с». Подчеркивание «с» ставит акцент не столько на повышении уровня непосредственного со-движения Для людей это со-движение с риском представлено особым образом как нечто пред-намеренно пред-поставленное. Риск и то, чем он рискует, природа, сущее в целом, мир – все это для человека выставлено наружу, вынесено из глухоты неограниченного отношения (Bezug). Но куда это вынесенное вынесено и каким образом? Природа вынесена перед людьми через человеческое пред-ставление. Человек вы-ставляет мир как пред-метное в его целостности перед собой, а себя перед миром. Человек примеряет мир к самому себе, а природу для себя самого производит (27). Мы должны осмыслять это производство природы в широком и многомерном смысле. Человек приказывает природе там, где она не удовлетворяет его представлениям. Человек производит новые вещи там, где их ему не хватает. Человек удаляет вещи там, где они ему мешают. Человек скрывает их и перемещает там, где они отвлекают его от его намерений. Человек выставляет вещи там, где он их оценивает для продажи и потребления. Человек выставляет их, где демонстрирует свою промышленность и использует все для своих предприятий. В этих множественных продуктах производства человека мир останавливается, приводится к неподвижности. Открытое превращается в пред-мет, и тем самым отворачивается от человеческой сущности. Человек противопоставляет себя миру как пред-мету и выставляет себя тем , кто преднамеренно навязывает (28) все это производство.
Помещение перед собой чего-то означает, что это помещенное как заранее пред-ставленное, предопределяет все виды производства применительно ко всему, и составляет основное свойство того, что называется волей. Понятая таким образом воля есть производство в смысле преднамеренного самонавязывания опредмечивания (Vergegenstaendlichung). Растение и зверь не имеют воли, так как они, будучи углубленными в желание, никогда не выставляют открытое перед собой как пред-мет. Они не могут двигаться «с» риском, как с чем-то пред-ставленным. Когда они помещены в открытое, чистое отношение никогда не становится знает пред-метным иным, но всегда остается ими самими. Человек же движется «с» риском, так как он в вышеобозначенном смысле есть волевое существо:
«Так что и мы,
еще больше, чем растение или зверь,
движемся с этим риском, волим этого».
Здесь названная воля есть самонавязывание, предпосылкой которого является готовое выставление мира уже как производимого всецелого пред-мета. Эта воля предопределяет сущность человека Нового времени, при том что, сам он не сознает во всей полноте и не может сегодня осознать, из глубин какой воли, как бытия сущего, эта воля волеизъявляется. Человек Нового времени вы-ставляет себя в этой воле как тот, кто во всех отношениях ко всему, что есть, а также к самому себе, воздвигает себя как навязывающего производителя и направляет это самовоздвижение на ничем необусловленное господство. Целое пред-метного состояния, каким оказывается мир, встраивается в навязывающее производство, вручается ему, подпадает под его приказание. Воля имеет в самой себе приказание, поэтому преднамеренное самонавязывание есть та форма, в какой состояние производителя и пред-метность мира схвачены в едином безусловном и полноценном единстве. В этом единящем схватывании обнаруживает себя приказательный характер воли. Вместе с этим в ходе становления метафизики Нового времени проявляется древняя скрытая сущность воли как бытия сущего.
Соответственно человеческая воля навязывает себя таким образом, чтобы втиснуть все, не обозрев прежде это все, в собственную сферу. Для этой воли все становится заведомо и не прекращаясь ни на мгновение материалом навязываемого производства. Земля и атмосфера превращаются в ресурсы. Человек становится человеческим материалом, которому предписаны заведомо заданные цели. Безусловное направление необусловленного навязывания преднамеренного помещения мира в состояние, подлежащее человеческому приказанию – это исток, откуда выходит тайный смысл современной техники. Только в современную эпоху это начинает проявляться как судьба истины сущего в целом, ранее же попытки проявить себя встраивались в более широкую сферу культуры и цивилизации.
Современная наука и тотальное государство являются необходимым следствием сущности техники и вытекающими из нее последствием. То же самое касается средств и форм организации мирового общественного мнения и повседневных представлений людей. Не только живое опредмечено в обращении и использовании, но идет полным ходом и атака атомной физики на исток жизни как таковой. Сама сущность жизни может быть объяснена на основании технического производства. И то, что сегодня со всей серьезностью в атомной физике некоторые видят предпосылки для обоснования человеческой свободы и основание для учения о новых ценностях, показывает господство технического представления, сфера влияния которого давно вышла за пределы частных мнений и взглядов. Сущностное могущество техники показывает себя даже там, где в смежных сферах люди пытаются обуздать технику при помощи старых ценностных систем, используя, однако, для этого опять же технические средства, а традиционные системы оказываются лишь внешними формами. Использование машинерии и создание машин давно уже не является техникой, но стало связанным с ней инструментом ориентации ее бытия в предметность ее собственной вещественности. То, что человек стал субъектом, а мир – объектом, является именно следствием направленной на себя саму себя сущности техники, а не наоборот.
Поскольку открытое Рильке познано как бес-предметность полной природы, в противоположность этому и симметричным образом мир волящего человека должен быть вынесен как пред-метное. И наоборот, взгляд, брошенный на священную целостность сущего из явления наступающей техники, образует знак, указывающий на ту область, откуда может прийти изначальное оформляющее преодоление технического.
Бесформенные формы технического производства закрываются открытое чистого отношения (Bezug). Некогда произраставшие вещи стремительно прячутся. Из-за опредмечивания они не способны более показать свою собственную суть. В письме от 13 ноября 1925 года Рильке пишет:
«Еще для наших дедов «дом», «источник», доверенная им башня, их собственное пальто, их одежда, были чем-то бесконечно большим, бесконечно более доверительным. Почти каждая вещь была сосудом, в котором хранилось человеческое, собиралось человеческое. Сейчас же из Америки потянулись пустые безразличные вещи, вещи-видимости (Schein-dinge), муляжи жизни… Дом в американском понимании, американское яблоко или тамошний виноград, не имеют ничего общего с домом, плодом или ягодой, в которые помещались надежды и мысли наших дедов» (Письма из Мюзо).
Но это «американское» есть как раз концентрированный возврат Европе собранной волевой сущности Нового времени, выражающей само «европейское»; в самой же Европе через завершение метафизики у Ницше были продуманы заранее по меньшей мере некоторые области сущностной постановки под вопрос мира, в котором бытие начинает править как воля к воле. Не просто «американское» угрожает нам, сегодняшним, но неопознанная сущность технического угрожала уже нашим праотцам и их вещам. Сущностное в размышлении Рильке лежит не в его попытке спасти вещи праотцов. Мы должны, продумав, осознать, что именно становится под вопрос вместе с вещностью вещей. Рильке писал ранее из Дуино 1 марта 1912 года: «Мир втягивается; и вещи со своей стороны делают то же самое, причем их существование все больше перемещается в вибрацию денег и там развивает своего рода духовность, которая уже сейчас превосходит их ощутимую реальность. В эпоху, которой я занимаюсь (XIV век), деньги еще были золотом, металлом, изящной вещью, самой конкретной и понятной из всех (Письма 1907 – 14 годов). Еще десятилетием раньше Рильке опубликовал в «Книге пилигрима» (1901), второй из «Часослова», следующее проницательное стихотворение:
Короли мира стары
И у них не будет наследников.
Сыны умирают в младенчестве
А оставшиеся дочери дают
Власти слабые короны.
Чернь дробит их на мелкие монеты,
Хваткий владыка мира
Протягивает их огню машин,
Которые служат, рокоча, его воле,
Но счастье не с ними.
Металл в ностальгии. И бросает
Монеты и колеса,
Уча их короткой жизни.
И из фабрик и касс
Они снова возвращаются в жилы
Разверстых гор,
Которые закрываются следом.
Вместо того, что некогда дарило собой оберегаемый миропорядок вещей, все быстрее, отчаяннее и совершеннее распространяется предметность технического господства над землей. Эта пред-метность не просто выставляет все сущее, как могущее быть произведенным в процессе производства, но поставляет продукты производства на рынок. Человечность человека и вещность вещей растворяются в навязчивом производстве рыночной стоимости рынком, который не только охватывает в качестве мирового рынка всю землю, но, будучи волей к воли в сущности бытия, начинает торговаться и передает все сущее в руки расчета, который является особенно хватким там, где можно обойтись без цифр.
Стихотворение Рильке осмысляет человека, как существо, которым рискуют, ввергая его в воление, но так, чтобы он заранее не познал, что это волимо волей к воле. Так в процессе воления человек может «идти вместе с риском», выставляя всем через свои дела и попущения себя как самонавязывающего, преподнося себя самого всему тому, что он сам делает, навязывая себя всему остальному. Поэтому человек более рискует, нежели растение или зверь. И он тем самым он пребывает в опасности иначе, чем все остальные.
Среди живых существ (растений и животных) никто не укрыт более остальных, все предоставлены открытому и им охраняются. Человек же, как тот, кто волит самого себя, не просто не укрыт целым сущего, но находится вне всякого укрытия. Как пред-ставляющий и про-изводящий человек оказывается перед открытым, которое заперто (Als der Vor- und Her-stellende steht er vor dem verstellten Offenen). Поэтому он, как и все, что его окружает, подлежит все возрастающему риску превратиться в чистый материал, в функцию опредмечивания. Намеренность само-навязывания расширяет область опасности того, что человек окончательно утратит свое «я» в необусловленном производстве. Угроза, обращенная к сущности человека, растет из самой этой сущности. Сущность же покоится в отношении (Bezug) человека к бытию. Человек в самом сущностном смысле находится под угрозой в силу своего самоволения, он постоянно нуждается в укрытии, но его сущность столь же постоянно его этого укрытия лишает.
Это «бытие без укрытия» (Schutzlossein) отличается от не «особенно-укрытости» растений и зверей в той же мере, в какой их «глухое желание» отличается от самоволения человека. Это различие бесконечно, поскольку от глухого желания к опредмечиванию в самонавязывании нет никакого перехода. Это не только ставит человека «по ту сторону укрытия», но навязывание поредмечивания мира уничтожает все более и более решительно саму возможность укрытия. Возводя с помощью техники мир в пред-мет, человек сознательно и окончательно заколачивает дверь в открытое, которое и так для него было закрыто. Сознает ли он это или нет, но самонавязывающий человек является функционером техники. Он не просто оказывается вне открытого, но через опредмечивание мира он еще и отворачивается от возможности «чистого отношения» (Bezug). Человек отделяется от чистого отношения (Bezug). Человек технической эры окончательно расстается с открытым. Это еже не расставание с.. (Abschied von), но отделение против... (Abschied gegen).
Техника это необусловленное направление, заданное самонавязыванием человека, необусловленного бытия без укрытия, на почве (Grund) отречения (Abkehr), которое господствует во всей предметности, от чистого отношения (Bezug), притягивающего к себе как неслыханной середине сущего все чистые силы. Техническое производство – это организация расставания. Слово «расставание» (Abschied) в своем описанном здесь значении – другой важный термин поэзии Рильке.
Не смертоносная машинерия атомной бомбы, о которой сегодня так много говорят, является самой смертоносной. Безусловность чистой воли в смысле преднамеренного самонавязывания всему – вот что -- и уже с давних пор -- угрожает человеку и самой человеческой сущности смертью. Человеку в его бытии угрожает волевое убеждение, будто достаточно мирно извлечь, переработать, накопить и распределить природные ресурсы, чтобы сделать человеческое бытие более сносным и в целом счастливым. Но умиротворенность такого счастья есть ничто иное, как ничем не ограниченная лихорадка бешенства самонавязывания, обращенного само на себя. Самой сущности человека угрожает также убежденность, что можно обезопасить риск самонавязывания производства, если в стороне от этого сохранить ценность других интересов, например, религиозных верований. Будто бы в этом сущностном отношении (Verhaltnis), когда человек в техническом волении противопоставляет себя сущему в его целостности, может существовать какое-то смежное пространство, предлагающее нечто большее, нежели эфемерные пути бегства в самообман – к чему относится, в частности, обращение к богам Древней Греции. Также самой сущности человека угрожает убеждение, что техническое производство способно упорядочить мир, тогда как именно это «приведение в порядок» нивелирует в униформности производства всякий порядок (ordo), т.е. всякий ранг, уничтожая заведомо область возможного возведения в ранг и признание, исходящие из самого бытия.
Не тоталитарный характер воли составляет главную опасность, но сама воля, в форме самонавязыавния, внутри мира, допущенного только как воля. Воление, волимое исходя из этой воли, уже решено в безусловном приказании. Эта решимость воплощает воление в тотальную организацию. Но прежде всего, именно техника сама мешает всякому познанию ее сущности. Потому что по мере того, как она развертывается, она развивает в области наук форму познания, которой навсегда закрыта сущностная сфера технического и тем более возможность переосмыслить ее сущностное происхождение.
Сущность техники очень медленно появляется на дневной свет. И этот день есть ночь мира, переправленная в день техники. Это – самый короткий день. Вместе с ним, нам угрожает бесконечная зима. Теперь человеку отказано не только в укрытии: нетронутая совокупность сущего в своей цельности остается в сумерках. Благо (das Heile) скрывается. Мир становится неизлечимым (heil-los), безблагодатным. Тем самым не только священное (das Heilige), как след, ведущий к Божественному (Gottliche), исчезает, но стирается даже след священного – благо. Пока не остается лишь несколько смертных, способных увидеть угрозу безблагодатности как безблагодатность. И они поймут в какой-то момент, какая угроза нависла над человеком. Угроза затрагивает саму сущность человека в его отношении (Verhaltnis) к самому бытию, а не какая-то относительная и преходящая опасность. Такая угроза есть Угроза по преимуществу. Для всего сущего она скрыта в бездне. Но чтобы увидеть эту угрозу и показать ее другим, должны существовать смертные, которые достигнут «дна» бездны дальше других.
«Но там, где угроза, там также
произрастает и спасающее»
(Гельдерлин, IV)
Всякое иное спасение, которое не происходит оттуда же, где коренится опасность, остается в пределах несчастья (Unheil). Любые способы спасения через самое благонамеренное приказание на протяжении всей судьбы останется для людей эфемерной видимостью. Подлинное спасение должно прийти оттуда, где вырисовывается поворот, который должен затронуть смертных вплоть до их сущности. Есть ли смертные, которые достигают первыми бездны скудости и ее нищеты? Эти самые смертные из смертных окажутся в опасности более, чем все остальные. Они будут рисковать еще больше, чем человеческое существо, которое само-навязывается, хотя оно, в свою очередь, рискует более, чем растение или животное.
Рильке говорит:
«Так что и мы,
еще больше, чем растение или зверь,
движемся с этим риском, волим этого».
И он продолжает в том же стихотворении:
«… иногда даже
мы рискуем больше (и не из-за интереса),
чем сама жизнь, одним вздохом
больше…»
Человек в своей сущности не просто рискует больше, чем растение или животное. Иногда он рискует даже больше, «чем сама жизнь». Жизнь означает здесь сущее в своем бытии, т.е. природа. Человек, время от времени, рискует больше, чем сам риск, становится более сущим, чем бытие сущего. Но бытие – это основа сущего (das Sein ist der Grund des Seienden). Тот, кто рискует больше, чем сама основа (Grund), достигает места, где более нет никакой основы, т.е. бездны (Ab-grund). Однако, если человек есть то, чем рискуют и движется вместе с риском, желая его, люди, которые рискуют еще больше, должны быть еще более волящими, желающими. Но может ли воление подняться над безусловностью преднамеренного самонавязывания? Нет. Значит, те, кто иногда рискуют больше, могут быть «волящими больше» только в том смысле, что их воление в своей сущности является иным. Волить и волить – это не одно и то же. Те, кто являются более волящими, исходя из сущности воления, остаются более соответствующими воле, как бытию сущего. Они больше отвечают бытию, которое проявляет себя как воля. Они более волящие (wollender) в той мере, в какой они более согласные (williger). Так что же они, эти более согласные, которые рискуют больше? Кажется, стихотворение не отвечает прямо на этот вопрос.
Во всяком случае строки 8 – 11 говорят кое-что о тех, кто рискуют больше – но только через отрицание и довольно смутно. Более рискующие рискуют не из-за интереса, не из-за своей личности. Они не стремятся ни обрести преимущества, ни потешить себялюбие. Они не могут также, хотя и рискуют больше, считаться просто достигшими больших результатов. Они рискуют больше совсем на немного: они рискуют больше лишь «на один вздох …» Их «больше» в риске скромно как вздох, ускользающий и незаметный. НО и такой намек не позволяет нам понять, кто же они – те, кто рискуют больше.
Напротив, строки 10-12 говорят нам, что несет с собой риск, который отваживается зайти дальше, чем бытие сущего:
«Он создает нам, про ту сторону укрытия
безопасное бытие, там, где действует сила тяготения
чистых сил»
Как все существа, мы тоже являемся сущими, которыми рискуют в риске бытия. Однако, будучи волящими, мы идем вместе с риском, а значит, нами рискуют больше, и мы больше открыты опасности. В той мере, в какой человек укрепляется в преднамеренном самонавязывании и направляется в безусловном опредмечивании к расставанию с открытым, он практикует сам собственное бытие без укрытия.
И наоборот, риск, более рискованный, создает нам безопасность. Это не значит, что он воздвигает бастионы вокруг неприкрытости, так как это означало бы создание укрепления там, где по определению нет укрепления. Это возможно только в опредмечивании, но оно запирает для нас открытое. Риск, более рискованный чес сам риск, не создает укрытия. Он создает нам безопасность. Немецкое sicher, латинское securus, sine cura означает буквально: без заботы. Забота означает здесь вид преднамеренного самонавязывания на путях и посредством необусловленного производства. Беззаботными мы становимся только тогда, когда не помещаем наше бытие исключительно в сферу производства и потребления, пользы и защищенности. Мы беззаботны только тогда, когда не считаемся ни с отсутствием укрытия, ни с наличием искусственного укрытия, выстроенного внутри воления. Безопасность можно обрести только по ту сторону опредмечивающего отречения от открытого, «по ту сторону укрытия», по ту сторону расставания с чистым отношением. Это и есть неслыханный центр всякого притяжения, которое притягивает все вещи в область без ограничений и воспринимает их в центре. Этот центр – находится «там», где действует сила тяготения чистых сил. Безопасность это тайный отдых в тяге чистого отношения (Bezug).
Риск, более рискующий, чем сам риск, еще более волящий, нежели всякое самонавязывание, будучи более соглашающимся, «создает» безопасность в открытом. «Создавать» (schaffen) означает здесь «черпать» (schoepfen) в источнике. Черпать в источнике – значит, принимать то, что бьет (из-под земли) и передавать воспринятое таким образом. Рискующий больше других риск согласного воления ничего не приготавливает. Такой риск воспринимает и передает воспринятое. Он передает так, что воспринятое развертывается в своей полноте. Рискующий риск все исполняет (осуществляет), но ничего не производит. Только такой риск, который становится более рискованным через согласие, может осуществлять, воспринимая..
Строки 12-16 определяют, в чем состоит самый рискующий риск который рискует по ту сторону всех укрытий и приводит нас там к беззаботности. Он никоим образом не отменяет бытие без укрытия, установленное преднамеренным самонавязыванием. В той мере, в какой бытие человека восходит в опредмечивание сущего, оно остается без укрытия посреди сущего. Будучи неукрытым в этом смысле, человек через отсутствие укрытия, сопряжен с ним, и таким образом пребывает внутри сферы укрытия. Безопасность же лежит по ту сторону всех отношений с укрытием: «по ту сторону» укрытия.
Следовательно, представляется, что для безопасности и ее обретения необходим такой риск, который отбросил бы всякую связь с укрытием или отсутствием укрытия. Но это только представляется. На самом деле, когда мы мыслим, отталкиваясь от закрытости цельного отношения (Bezug), мы наконец (т.е. изначально) постигаем, что нас освобождает от озабоченности, порождаемой самонавязыванием в отсутствии укрытия:
«То, что нас в конце концов защищает,
Это бытие без укрытия»
Как бытия без укрытия может нас защитить, если только открытое обеспечивает защиту, а бытие без укрытия протекает в постоянном расставании с открытым? Бытие без укрытия может защищать только тогда, когда от-вращение (Abkehr) к открытому будет по-вернуто в обратном направлении, обратившись лицом к открытому и в нем самом. Итак, бытие без укрытия, будучи перевернутым, -- вот что дает прибежище. Давать прибежище здесь означает с одной стороны, что пере-ворачивание от-вращения осуществляет охранение, а с другой стороны, что каким-то образом само бытие без укрытия обнаруживается как безопасность. То, что дает прибежище,
«это бытие без укрытия и то, что мы так
в открытое вступаем, видя угрозу, нависшую над ним.»
«И» приводит к объяснению, показывающему, каким образом эта странная вещь возможна – наше бытие без укрытия дарит нам безопасность по ту сторону всякого укрытия. Бытие без укрытия, конечно, не дает нам прибежища всякий раз, когда мы обращаемся к нему, почувствовав себя в опасности. Бытие без укрытие охраняет нас только тогда, когда мы уже совершили поворот. Рильке говорит: «мы так в открытое вступаем». В этой повернутости лежит исключительное свойство поворота. В повернутости бытие без укрытия внезапно пре-вращается как целое в своей сущности. Исключительность поворота состоит в том, что мы начинаем видеть бытие без укрытия как угрозу. Только такая увиденность показывает опасность. Она показывает, что бытие без укрытия как таковое угрожает нашей сущности потерей принадлежности к открытому.В этой увиденности покоится повернутость. Бытие без укрытия поворачивается «в открытое». С увиденностью опасности как существенной опасности мы должны осуществить переворачивания отвращения к открытому. Это подразумевает: само открытое должно повернуться к нам таким образом, чтобы позволить нам повернуть к нему бытие без укрытия,
«чтобы, где-то на широчайшей окружности,
там, где нас касается закон, сказать ему да».
Что это за более широчайшая окружность? Видимо, Рильке имеет в виду открытое, увиденное особым образом. Широчайшая окружность охватывает все, что есть. Окруженное этой окружностью соединяет все сущее так, что в объединяющем единстве оно есть бытие сущего. Но что значит «сущее»? Поэт называет сущее в целом «природой», «жизнью», «открытым», «чистым отношением». И даже иногда, используя язык Метафизики, он называет это круглую целостность сущего – «бытием». Но какова сущность этого бытия, этого мы не узнаем. Но не говорит ли нам об этом уже то обстоятельство, что Рильке называет бытие рискующим риском? Да, конечно. Мы также пытались переосмыслить названное таким образом в современном понимании сущности бытия сущего, как волю к воле. Уже одна эта речь все объясняет как нельзя более ясно, если мы попытаемся помыслить саму окружность как сущее в целом, а то, что окружено окружностью -- как бытие сущего.
Но как мыслящие существа, мы не должны забывать, что изначально бытие сущего мыслилось как то, что окружено окружностью. Но эта сферичность бытия мылится слишком небрежно и всегда со стороны поверхности, если мы предварительно не задаемся вопросом и не познаем, как в своей сущности есть бытие сущего. on, сущее, сущие в целом, onta называется en, единящее единство. Но что это за округляющее единое как фундаментальная черта бытия? Что значит бытие? eon, сущее, означает: при-сутствующее, присутствующее в несокрытом. Но в присутствии скрыто следующее: выведение перед несокрытостью, которое сущностно позволяет быть присутствующему. Но подлинно присутствующим является только само присутствие, которое всегда и везде тождественно в своей собственной середине и как таковое всегда сферично. Сферичность основывается не на окружении, которое нечто охватывает, но на раскрывающейся середине, обнаруживающей светящееся присутствие. Сферичность единого и само единое имеют свойство обнаруживающегося просвета, чье присутствующее может таким образом присутствовать. Вот почему Парменид называет (фрагмент VIII) eon, присутствие присутствующего eukukloz sfairh («сферой благокруглой»). Этот благокруглый шар следует мыслить как бытие сущего в смысле открывающего-освещающего единого. Это повсюду наличествующее единящее дает повод назвать его сияющей оболочкой которая как раскрывающее не охватывает собой внутреннее, но выпускает, сияя, себя самое в присутствие. Этот шар бытия и его сферичность никогда не следует представлять предметно. Но тогда как? Не предметно? Нет. Это была бы отговорка. Сферичность следует мыслить, отталкиваясь от сущности изначального бытия в смысле раскрывающего присутствия.
Эту ли сферичность бытия имеют в виду слова Рильке о широчайшей окружности? Думать так у нас нет никаких оснований, но само определение бытия сущего как риска (воли) идет в разрез с такой гипотезой. Однако сам Рильке однажды сам говорил о «шаре бытия», и в контексте, непосредственно имеющем отношение к истолкованию более широкой окружности. В письме от 6 января 1923 года Рильке пишет: « жизнь, как луна, имеет лик, который постоянно отворачивает от нас, лик, который не является ее противоположностью, но ее дополнением, довершающей ее совершенство, как подлинной и спасительной полноты сферы и шара бытия.» Хотя не следует слишком настаивать на предметно представленном небесном теле, упомянутом здесь, ясно, что Рильке мыслит сферичность, не как взгляд на бытие, в смысле единяще-освящающего присутствия, но отталкиваясь от сущего, как полной совокупности его ликов. Шар бытия, о котором здесь идет речь, т.е. сущее в целом, это открытое, как сплошное безгранично друг в друга перетекающих и друг на друга действующих чистых сил. Широчайший круг – это совокупность цельного отношения притяжения. Этому широчайшему кругу соответствует, как сильнейшая середина, «неслыханный центр» чистой силы тяготения.
Повернуть бытие без укрытия к открытому означает утвердить («сказать да») это бытие без укрытия внутри более широкой окружности. Такое «говорение да» возможно только там, где целое окружности обсчитано не только полностью, но и в этом процессе установлено равенство, а значит, мы имеем дело с пред-лежащим, положительным (positium). Этому может соответствовать только операция положения, утверждения положения, а не отрицания (negatio). Даже те стороны жизни, которые повернуты к нам спиной (abgekehrt), в той мере, в какой они суть (sind), должны быть взяты положительно. В уже цитированном письме от 13 ноября 1925 года Рильке говорит: «смерть – это сторона жизни, которая отвернута от нас, которая нами не освещена» (Письма из Мюзо). Смерть и царство мертвых принадлежат целостности сущего как другой ее лик. Эта область и есть «иное отношение», т.е. другой лик целостного отношения открытости. В более широкой окружности шара сущего имеются области и места, которые, будучи повернутыми от нас, кажутся нам чем-то отрицательным, но, на самом деле, они не таковы, если мы переосмыслим их в горизонте более широкой окружности сущего.
Из открытого кажется, что бытие без укрытия, как расставание с чистым отношением, есть нечто отрицательное. Расстающееся самонавязывание опредмечивания стремится установить повсюду постоянство произведенных предметов и только их возводит в ранг сущего и положительного. Самонавязывание технического опредмечивания есть постоянное отрицание смерти. Через это отрицание сама смерть становится чем-то отрицательным, непостоянным и ничтожным. Однако если мы повернем бытие без укрытия в открытое, мы введем его в более широкую окружность сущего, в котором само бытие без укрытия мы сможем только утверждать, говорить ему «да». Повернуться в открытое означает отказ прочитывать чтобы то ни было из того, что есть, как нечто отрицательное. Но что есть более сущее или на языке Нового времени, более «очевидное», чем смерть? Приведенное письмо от 6 января 1923 годя говорит: «надо научиться читать слово смерть без отрицания».
Если мы повернем бытие без укрытия как таковое к открытому, мы перевернем его в его сущности, т.е. в качестве отвращения от чистого отношения, и возвратим его на более широкую окружность. И нам останется только сказать таким образом перевернутому «да». Но это говорение да, означает не превратить нет в да, но воспринять как положительное (позитивное) уже наличествующее и присутствующее. Это происходит, когда мы внутри более широкой окружности позволяем перевернутому бытию без укрытия принадлежать к области , где «нас касается закон». Рильке не говорит: «какой-то конкретный закон». Он не хочет тем самым сказать «правило». Он мыслит о том, чтО нас касается. Кто мы? Мы есмы те волящие, которые через преднамеренное самонавязывание воздвигают мир как предмет. Если мы затронуты более широкой окружностью, это касается того, кто делает нас нами в нашей сущности. Трогать означает: приводить в движение, заставлять трогаться. Сама наша сущность приводится в движение. В этом касании наше воление потрясается до основания так, что сущность воления выходит на свет и приводится в движение. Только тогда воление становится добровольным волением.
НО что нас непосредственно затрагивает в более широкой окружности? Что в обычном волении опредмечивания мира закрыто нами самими для нас самих и остается закрытым? Другое отношение: смерть. Это она касается смертных в их сущности, ставит их на пути другой стороны жизни и помещает их в целостность чистого отношения. Смерть собирает таким образом в цельность уже положенного, в positium (положенность) цельного отношения. Будучи таким собором положений, смерть и есть закон (Als diese Versammlung des Setzens ist er [der Tod] das Ge-setz).), как горный хребет есть собор отдельных гор в целом их со-отношения. Там, где этот закон нас затрагивает, мы прибываем к точке, внутри более широкой окружности, где мы можем позволить войти перевернутому бытию без укрытия в цельность сущего. Бытие без укрытия, перевернутое таким образом, наконец-то нас оберегает, по ту сторону всякого укрытия, в открытом. Как возможен однако такой поворот? Как может произойти переворот расстающегося отвращения к открытому? Видимо только если переворот развернет нас лицом к более широкой окружности и заставит нас в нашей сущности войти в него. Область безопасности должна быть вначале нам показана, стать для нас доступной как свободное пространство для переворачивания. Но тем, что дает нам безопасное бытие и тем самым измерение безопасности, является тот риск, который рискует больше, чем сама жизнь.
Но этот риск, который рискует больше других, нельзя обрести то там, то тут в нашем бытия без укрытия. Он не пытается изменить то один, то другой аспект опредмечивания мира. Он переворачивает все бытие без укрытия как таковое. Риск более рискованный, чем сам риск возводит бытие без укрытия в область, которая является его собственной.
Какова сущность бытия без укрытия, если оно состоит в опредмечивании, которое, в свою очередь, коренится в преднамеренном самонавязывании? Предметность мира становится по-стоянной в пред-ставляющем про-изводстве. Это пред-ставление – пред-ставляет (ставит перед, делает на-стоящим). Но это на-стоящее на-стает в пред-ставлении, которое есть расчет. Это пред-ставление не знает ничего образного. Зримость вида вещей, образ, который они сообщают непосредственному чувственному видению, ему недоступны. Расчетливое производство техники это «делание без образа» (Девятая элегия). Перед видимым образом вещей преднамеренное самонавязывание в своем наброске (проекте) помещает пред-ложение схемы, которая есть исчисленная структура. Когда мир вступает в предметность исчисленных структур, он устанавливается в нечувственном и невидимом. Постоянство предметности обязано своим наличием состоянию, чья деятельность принадлежит к «мыслящей вещи», res cogitans, т.е. сознанию. Сфера предметности предметов остается внутри сознания. Невидимость предметного принадлежит внутреннему имманентности сознания.
Однако если бытие без укрытия есть отвращение к открытому, а отвращение в свою очередь состоит в опредмечивании , которое основывается в невидимой и внутренней сфере сознания и его расчетов, тогда сущностная сфера бытия без укрытия есть невидимость и внутренность сознания.
Раз бытие без укрытия есть расставание с открытым, покоящееся в опредмечивании, которое в свою очередь принадлежит к области невидимого и внутреннего исчисляющего сознания, то сущностная область бытия без укрытия также есть невидимое и внутреннее сознания.
Но в той мере, в какой переворот бытия без укрытия в открытое затрагивает сущность бытия без укрытия, этот переворот бытия без укрытия есть переворот сознания и поэтому он происходит он внутри сферы сознания. Сфера невидимого и внутреннего определяет сущность бытия без укрытия; она определяет также характер его переворачивания в более широкой окружности. Итак то, к чему сущностно внутреннее и невидимое должно повернуться, чтобы найти свое собственное бытие, может быть только еще более невидимым, чем все невидимое, более внутренним, чем все внутреннее. В Метафизике Нового времени сфера невидимого внутреннего определяется как область наличия исчисленных предметов. Эту сферу Декарт характеризует как сознание мыслящего я, ego cogito.
Почти в тоже самое время как и Декарт, Паскаль, открыл, как антитезу логике исчисляющего разума, логику сердца. Внутреннее и невидимое измерение сердца не только более внутреннее, чем внутреннее исчисляющего представления – и значит еще более, невидимое -- но оно идет в тоже время распространяется еще дальше, чем область производимых предметов. Именно там, в глубине сердца человек впервые влеком к тому, что он по-настоящему любит: к предкам, к мертвым, детству, к тем, кто придет позже (Kommenden). То принадлежит более широкой окружности, что показывает себя как сфера наличия цельного спасительного отношения. Это наличие, как и наличие обычного сознания – сознания исчисляющего производства – есть имманентность. Но внутри необычного сознания имеется еще более внутреннее пространство, где все вещи превозмогают цифровое исчисление, и освободившись от ограничений, растекаются во все стороны в безграничной целости открытого. Такое сверхчисленное изобилие возникает во внутреннейшем (Innenraum)(29) и невидимом пространстве сердца. Последние слова Девятой элегии Рильке, воспевающей принадлежность людей к открытому – звучат так: «В сердце у меня возникает сверхчисленное существование».
Более широкая окружность сущего становится наличествующей во внутреннейшем пространстве сердца. Цельность мира во всех его отношениях (Bezugen) достигает здесь равносущностного наличия. На языке Метафизики, Рильке называет это «существованием» (Dasein). Цельное наличие мира есть в широком смысле «мировое существование» (weltischer Dasein). Это другое имя для открытого, другое потому, что отталкивается от иного называния, которое на сей раз мыслит открытое по мере того, как пред-ставляющее и производящее отвращение к открытому, переворачивается во внутреннейшем пространстве сердца, расставаясь с имманентностью исчисляющего сознания. Итак внутренне пространство сердца для мирового существования именуется «внутренним пространством мира». Мир означает здесь цельность сущего.
В письме из Мюзо, датируемом 11 августа 1924 года Рильке пишет: «Каким бы протяженным ни было внешнее, оно не выдерживает сравнения – не смотря на все звездные расстояния – с измерением глубины нашего внутреннего, которое для того чтобы быть почти нескончаемым в самом себе, вовсе не нуждается в объеме Вселенной. Если мертвые, а также те, кому еще только предстоит прийти в мир, будут нуждаться в месте пребывания, какое убежище будет для них более приятным и более открытым, чем это воображаемое пространство? Я все больше и больше убеждаюсь, что наше обыденное сознание пребывает на вершине пирамиды, чье основание настолько широко в нас (и в каком-то смысле под нами), что чем больше мы способны туда погрузиться, тем больше оказываем связанными с независимыми от пространства и времени данными земного существования, понятого в самом широком смысле как мировое существование.»
В противоположность этому предметность мира исчисляется в пред-ставлении, которое относится ко времени и пространству как квантам исчисления, и о сущности времени, мы знаем также мало, как и о сущности пространства. Рильке не размышляет далее о пространственности внутреннего пространства. Он не задается и вопросом о том, не пускает ли внутреннее пространство мира, дающее прибежище мировому наличию, корни в такой форме временности, в которой сущностное время образует вместе сущностным пространством изначальное единство – пространство-время, что и есть способ бытия самого бытия.
Однако внутри сферичности, свойственной современной Метафизике, т.е внутри сферы субъективности как сферы внутреннего и невидимого наличия, Рильке пытается понять бытие без укрытия, данное вместе с самонавязывающеся сущностью человека таким образом, что оно само, будучи перевернутым, сохранило бы нас во внутреннейшем (30) и невидимейшем широчайшего внутреннего пространства мира. Бытие без укрытия как таковое и сохраняет. Его сущности, как внутреннему и невидимому дается знак – перевернуть отвращение к открытому. Этот переворот пребывает во внутреннем внутреннего. Переворот сознания это воспоминание-овнутрение (31) имманентности предметов представления внутри пространства сердца.
Пока человек продолжает быть преднамеренным самонавязыванием, без укрытия остается не только он сам, но и все вещи в той мере, в какой они становятся предметами. При этом проходит превращение вещей во внутреннее и невидимое. Это превращение замещает одряхление вещей мыслимыми структурами исчисленных предметов. Предметы производятся для того, чтобы их использовали. И чем быстрее они используются, тем они полезнее и тем быстрее и легче их надо замещать новыми. Остающееся наличие опредмеченных вещей представляет собой противоположное их самоупокоению в их собственном мире. Постоянство искусственно произведенных вещей, как чистых предметов использования, есть замещение, эрзац.
Как нашей эпохе бытия без укрытия, в эру преобладания предметности, свойственно ослабление близких вещей, так безопасность нашей сущности требует спасения вещей от их собственной предметности. Это спасение состоит в том, чтобы вещи смогли бы отдохнуть, внутри широкой окружности цельного отношения, не ограничивая друг друга. Быть может, переворот нашего бытия без укрытия к мировому существованию внутри внутреннего пространства мира приведет к тому, что хрупкость и преходящесть опредмеченных вещей переместятся из внутреннего и невидимого производящего сознания в подлинно внутреннее сердечного пространства и там воскреснут. Письмо от 13 ноября 1925 года (Письма из Мюзо) говорит:
«наша задача в том, чтобы восприять впечатление от этой преходящей и хрупкой земли так глубоко, так болезненно и так страстно, чтобы ее сущность невидимо воскресла в нас. Мы пчелы невидимого. Мы прилежно собираем мед видимого, чтобы копить его в золотых сотах Невидимого».
Воспоминание-овнутрение) возвращает навязывающе волящую сущностьи ее предметы ко внутреннейшему невидимому сердечного пространства. Здесь все должно быть (еще раз) обращено вовнутрь: не достаточно обратиться к собственно внутреннему сознания, надо внутри этого внутреннего обратиться от одной неограниченности к другой. Обращенность внутрь внутреннего пространства ми раскрепощает для нас открытое. Только то, что мы узнали внутренне, мы способны высказать вовне(32). В этой обращенности внутрь мы свободны, поскольку оказываемся вне отношений с расставленными вокруг нас предметами, которые только по видимости нас укрывают и защищают. Во обращенности внутрь внутреннего пространства мира по ту строну укрытия открывается безопасность(33).
Но тут возникает вопрос: как может случиться это воспоминание-овнутрение (Er-innereung) имманентной предметности сознания во внутреннейшее сердца? Это касается внутреннего и невидимого. Так вот то, что вспоминается-овнутреяется как то, в чем это вспоминается-овнутреяется и есть эта сущность. Воспоминание-овнутрение есть поворот расставания к обращению к широчайшей окружности открытого. Кто из смертных способен на это переворачивающее воспоминание?
Стихотворение говорит нам, что безопасность нашего существа обеспечена тем, что «люди иногда рискуют иногда больше, чем сама жизнь, больше на один вздох».
Но чем рискуют смертные, когда рискуют более других? Стихотворение, кажется, умалчивает об этом. Вот почему мы попытаемся, размышляя об этом, пойти навстречу стихотворению, призывая на помощь другие стихотворения.
Вот наш вопрос: чем можно рискнуть еще больше, чем самой жизнью, т.е. самим риском, т.е. бытием сущего? В любом случае и во всех отношениях этот риск должен быть таким, чтобы затрагивать все сущее в той мере, в какой оно есть сущее. Но таким может быть только бытие, поскольку оно не один из видов сущего наряду с другими, но способ бытия (Weise) сущего как такового.
Что может превзойти само бытие, как единственную и уникальную разновидность сущего? Только оно само и только в его собственном бытии, и таким образом, чтобы оно (по)вернулось в свое собственное бытие. Бытие будет тогда тем уникальным, что превосходит само себя (т.е. transcendens по преимуществу). Но это пре-восходство восходит не по ту сторону себя и не к чему-то другому, но по эту сторону и к самому себе, назад – к сущности своей истины. Бытие от-меряет (durchmisst) само это восхождение и является само его из-мерением (Dimension).
Думая об этом, мы испытываем в самом бытии опыт того, что в нем лежит нечто «большее», что принадлежит ему самому, а значит, возможность того, что там, где бытие мыслится как риск, может царить нечто более рискующее, чем само бытие, как мы его обычно представляем себе со стороны сущего. Бытие отмеряет само по себе свою ограду, которая возводится (temnein, tempus) тем, что пребывает в слове. Язык есть ограда (templum), т.е. дом бытия. Сущность языка не исчерпывается ни в обозначении, ни в знаках и цифрах. Так как язык это дом бытия, мы достигаем сущего постоянно проходя через этот дом. Когда мы идем к источнику, когда мы пересекаем лес, мы пересекаем всегда имя «источник», имя «лес», даже если мы не произносим эти слова, даже не думаем словами. Думая, отталкиваясь от храма бытия, мы можем предвосхитить то, чем рискуют те, кто рискуют подчас больше, чем бытие сущего. Они рискуют оградой бытия. Они рискуют языком. Все сущее, предметы сознания и вещи сердца, навязывающие себя и рискующие люди, все существа, как сущие – каждое свойственным ему образом -- пребывают в ограде языка. Вот почему возврат из области предметов и их представлений во внутреннейшее пространство сердца свершается только в этой ограде.
Для поэзии Рильке бытие сущего метафизически определяется как мировое наличие (Praesenz), которое остается всегда соотнесенным с его представлением в сознании, будь то в форме имманентности исчисляющего представления или во внутреннем обращении в доступное лишь сердцу открытое.
Вся сфера наличия (Praesenz) наличествует в высказывании. Предметность производства состоит в произнесении исчисляющих положений и теорем разума, переходящего от положения к положению. Область навязывающего бытия без укрытия управляется разумом. Разум не только создает для высказывания, для логоса (logoz) как объясняющего предиката, специальную систему правил, но сама логика разума есть организация господства преднамеренного самонавязывания в сфере предметного. В перевороте предметного представления высказыванию воспоминания-овнутрения, напротив, соответствует логика сердца. В двух областях, каждая из которых определена метафизически, правит именно логика, поскольку воспоминание-овнутрение должно создать безопасность, отталкиваясь от самого бытия без укрытия, по ту сторону всякого укрытия. Такое охранение затрагивает человека как существо, наделенное языком. Он наделен языком, внутри метафизически отмеченного бытия таким образом, что он получает язык заранее и исключительно как имущество и тем самым как средство представления и образа действий. Вот почему логос (logoz), высказывание как органон, нуждается в организации посредством логики. Логика существует только внутри Метафизики.
Однако если в ходе обеспечения безопасности человек затронут законом целого внутреннего пространства мира, он трогается в самой своей сущности, т.е. в том, что он является высказывающим, в той же мере, как он является волящим. Но в той мере, в какой обеспечение безопасности проистекает из тех, кто рискует больше других, они должны рисковать именно словом. Те кто рискуют больше, рискуют высказыванием. Однако, если ограда, ограничивающая этот риск, т.е язык, принадлежит к бытию уникальным образом так, что над и вне его ничего не может быть, то куда то, что высказывающие должны высказать, должно быть обращено? Их высказывание касается того вспоминающего-овнутряющего переворачивания сознания, которое возвращает наше бытие без укрытия в невидимое внутреннего пространства мира. Их высказывание говорит, когда оно исходит из переворачивания сознания, не только отталкиваясь от двух областей, но и от их единства в той мере, в какой это единство уже осуществлено их спасительным объединением. Вот почему там, где сущее в целом мыслится как открытое чистого отношения, вспоминающее-овнутряющее переворачивание должно быть высказыванием, которое высказывает то, что должно, существу, которое уже пребывает в безопасности в центре целости сущего, совершив превращение представленного видимого в сердечное невидимое. Это существо включено в чистые отношение (Bezug) как одной, так и ругой стороне шара бытия. Это существо, для которого нет больше почти никаких границ и различий между отношениями, правит и проявляется неслыханным центром широчайшей окружности. В Элегиях к Дуино, это существо названо Ангелом. Это имя также является фундаментальным именем в поэзии Рильке. Оно как и «открытое», «отношение» (Bezug), «расставание», «природа» является фундаментальным именем, поскольку то, что высказывается в нем, мыслит цельность сущего, отталкиваясь от бытия. В письме от 13 ноября 1925 года Рильке пишет:
«Ангел Элегий – это создание, в котором превращение видимого в невидимое, с которым нам удается справиться с таким трудом, уже осуществилось. Ангел Элегий – это существо, которое присматривает за тем, чтобы признать в невидимом высший ранг реальности».
До какой степени внутри осуществления современной Метафизики, отношение к такому существу принадлежит к бытию сущего и до какой степени сущность Ангела Рильке, при всем содержательном различии является метафизически Тем же, что и образ Заратустры Ницше, может быть выяснено только из изначального развертывания сущности сущности субъективности.
Стихотворение мыслит бытие сущего, природу, как риск. Все сущее это то, чем риск (Wagnis) рискует (gewagt). Как то, чем рискуют (Gewagtes), оно кладется на весы (Wage). Эти весы – тот образ (Weise), которым бытие снова и снова взвешивает сущее - в движение риска. Каждое сущее, которым рискуют, пребывает в опасности. Области сущего различаются через их отношения к весам. В перспективе весов можно уяснить и сущность Ангела, если мы допустим, что в области всех сущих, он занимает высшее место в о всей области сущего.
В риске «их глухих желаний» растение или животное в полной беззаботности содержатся в открытом. Их физическая телесность не беспокоит их. Живые существа входят в открытое, убаюкиваемые своими инстинктами. Им тоже угрожает опасность, но она не распространяется на их сущность. Растение или животное пребывают на весах таким образом, что они уравновешиваются снова и снова в спокойствии безопасности. Риск, которому подлежат растение или животное, не достигает сферы сущностной и поэтому постоянной обеспокоенности. Весы, которым взвешивает Ангел, также лежит вне этого беспокойства; не потому, что они еще не вступили в область беспокойства и колебаний, а потому, что они уже ее покинули. В соответствии с бестелесной сущностью Ангела, возможность быть потревоженным видимым чувственным превращена в нем в невидимое. Ангел сущностно пребывает умиротворенном спокойствии уравновешенного единства обоих областей внутри внутреннейшего пространства мира.
Человек, как преднамеренно самонавязывающий, в свою очередь, есть тот, кем в его бытии без укрытия постоянно рискуют. Весы опасности остаются в руках человека, как того, кем рискуют, в сущностно беспокойном состоянии. Человек, который волит сам себя, постоянно исчисляет вещи и других людей как предметы. Подсчитанное становится товаром. Все постоянно обменивается на другое в соответствии с новыми и новыми заказами. Расставание с чистым отношением становится колебанием постоянно взвешивающих весов. Это расставание через опредмечивание мира порождает вопреки намерению непостоянство. Оказавшись в риске бытия без укрытия человек движется в среде сделок и обмена. Человек, навязывающий себя, живет целью своего воления. Он живет, сущностно рискуя своей сущностью, подвергаясь риску внутри вибрации денег и оценки ценностей. Будучи постоянным обменщиком и посредником человек становится «коммерсантом». Он постоянно взвешивает и оценивает, но вместе с тем он не знает подлинного веса вещей. Не знает он, что обладает весом и в нем самом, и что в не перевешивает. Вот почему Рильке в одном их своих «Поздних стихотворений» говорит:
«Ах! Кто знает то, что в нем перевешивает.
Милосердие? Ужас? Взгляды, голоса, книги?»
Однако в то же время человек может по ту сторону всякого укрытия черпать «безопасность» в том, чтобы обратить бытие без укрытия как таковое в открытое, помещая его в сердечном пространстве невидимого. Если это происходит, беспокойство бытия без укрытия переходит туда, где появляется в светоносном единстве внутреннего пространства мира существо, которое обнаруживает то, как единство единит и проявляет тем самым бытие. Тогда весы риска переходят из области исчисляющего воления в руки Ангела. От поздней эпохи поэзии Рильке сохранилось четверостишие, которое представляет видимо набросок более развернутого стихотворения. Нет необходимости предварять эти строки чем бы то ни было. Они таковы (Полное собрание сочинений, Т.3).
«Когда из рук торговца
Весы переходят
Тому Ангелу, который в небесах
Их успокаивает и умиротворяет в равновесии пространства…»
Это уравновешивающее пространство есть внутреннейшее пространство мира, по мере того, как оно дает место мировой цельности открытого. Так, оно обеспечивает и тому и другому отношению явление их объединяющего единства. Оно, как целительный шар бытия объемлет все чистые силы сущего, тем оно пронизывает собой все существа, которые бес-конечно раскрепощает. Все это происходит, когда передаются весы. Когда они переходят? Кто заставляет весы перейти из рук торговца в руки Ангела? Если этот переход происходит, он осуществляется в пределе весов. Стихия весов – риск, бытие сущего. Мы ранее уже помыслили язык как ограждение бытия.
Обычная жизнь современного человека, это привычное самонавязывание на рискованном рынке менял. Переход весов Ангелу это, напротив, нечто необычное. Оно необычно не в том смысле, в каком представляет собой исключение из правил, но оно выводит человека в его сущности по ту сторону области, где действует правило наличия или отсутствия укрытия. Вот почему переход случается «иногда». Это ни в коем случае не означает время от времени или произвольно; «иногда» означает редко и в нужное время, всякий раз уникальным образом и в уникальном случае. Передача весов из рук торговца в руки Ангелу, т.е. переворачивание расставания (Abschied), происходит как воспоминание-овнутрение во внутреннейшем пространстве мира тогда, когда находятся смертные, которые «иногда рискуют больше, на один вздох больше»…
Поскольку они более рискуют сами бытием, и тем самым рискуют в ограде бытия, в языке, то они суть высказывающие. Но человек по самой своей природе не обладает ли словом и не подвергается ли тем самым постоянно риску? Да, конечно. Тот, кто обычным образом воплощает свое воление в исчисляющем производстве также рискует высказыванием. Безусловно. В этом случае те, кто рискуют больше, не могут быть просто теми, кто высказывают. Высказывание тех, кто рискует больше, должно рисковать Сказом. Те, кто рискуют больше, является сами собой лишь тогда, когда они высказывают больше.
Когда в нашем обычном представляющем и производящем отношении к сущему выступаем как высказывающие, такое высказывание не является волимым. Высказывание остается лишь путем и средством. В отличие от этого, есть высказывание, которое откровенно открывается к Сказу, не размышляя о языке так, как о предмете. Вход в Сказ отмечает высказывание, которое нисходит к высказывающему, только чтобы быть высказанным. Высказывающим становится тот, кто принадлежит по своей сущности к ограде языка. Это метафизически говоря есть сущее в своей цельности. Всецелостность сущего это полнота чистого отношения, целение открытого в той мере, в какой оно вмещает в себя людей. Это и происходит во внутреннейшем пространстве мира. Это пространство касается человека, когда он поворачивается в своем переворачивающем воспоминании-овнутрении к пространству сердца. Те, кто рискуют больше, превращают несчастье бытия без укрытия в оздоровление мирового сушествования (Dasein). Это и есть подлежащее быть высказанным. В высказывании оно поворачивается к людям. Те, кто рискуют больше, это те, кто высказывают больше через пение, они суть певцы. Их пение закрыто для всякого преднамеренного навязывания себя самого. Их пение ничего не жаждет. Оно не домогается ничего, что было бы произведено.. В пении вмещается внутреннее пространство мира. Песнь этих певцов не призыв и не ремесло.
Более высказывающее высказывание более рискующих есть пение. Но
«Пение есть существование»
гласит третий сонет первой части «Сонетов к Орфею». Слово «существование» (Dasein) (34) используется здесь в традиционном смысле наличия, в смысле «бытия» (Sein). Петь, высказывать яcно существование мира, высказывать, отталкиваясь от целения цельного и чистого отношения, и высказывать только это и ничего иного, .значит принадлежать в ограде самого сущего. Эта ограда, как сущность языка, есть само бытие. Петь песнь означает быть наличествующим в самом настоящем, т.е. в существовании (Dasein)
Однако более высказывающее высказывание, как и риск большим, случается лишь иногда. Потому что оно трудно. Трудность лежит в этом осуществлении существования (Dasein). Трудное пребывает не только в трудности создать произведение из слов, но в трудности перейти от сказывающего делания еще только желаемого видения вещей, от делания лица к «сердечному деланию». Трудна песнь в том, что поющий должен быть не призывом, но существованием (Dasein). Для бога Орфея, который пребывает в бесконечности открытого , петь это легкая вещь, но не для человека. Вот почему последняя строфа процитированного сонета вопрошает:
И когда же мы есмы? (Wann aber sind wir?)
Ударение ставится на «есмы» (35), а не на «мы». То, что мы принадлежим к сущему, и поэтому являемся наличествующими, не ставится под вопрос. То, что ставится под вопрос, это знание, когда мы есмы таким образом, что наше бытие становится песней, и не такой песней, чье звучание звенит где попало и не обращено к чему-то уже достигнутому, но является пением, чье звучание уже в самом себе разливается, чтобы само пропетое сущностно стало бы быть. Люди высказывают больше, если рискуют больше, чем само сущее. Эти более рискующие суть согласно стихотворению Рильке «рискующие больше на один вздох». Приводимый сонет заканчивается так:
«Истинно петь это другое дыхание.
Дыхание для ничего. Дыхание в боге. Ветер.»
Гердер писал в своих «Идеях для философии истории человечества» «Дыхание наших уст становится полотном мира, типом наших мыслей и наших чувств в душе другого. От движения дыхания зависит все то, что люди когда-либо думали, хотели делали и сделают еще на земле людей, потому что мы все, мы еще слонялись бы по лесам, если божественное дыхание не окружило бы нас своим огнем и не парило бы волшебным звуком на наших устах».
Дыхание тех, кто рискует больше, означает не только и не в первую очередь, едва ощутимую мимолетную разницу, но само слово и сущность языка. Те, кто рискуют больше на один вздох, выставляют себя риску языка. Те суть высказывающие, которые высказывают больше. Потому что дыхание, которым они рискуют не просто высказывание, это дыхание иное дыхание, и это высказывание – иное высказывание, нежели обычное высказывание людей. Иное дыхание не стремится к тому или иному предмету, это дыхание ни для чего. Высказывание певца высказывает целительную цельность мирового существования, которое вмещается невидимо во внутреннем пространстве сердца. Пение не ищет, что ему высказать. Пение – это принадлежность к цельности чистого отношения. Петь -- значит быть унесенным порывом ветра неслыханного центра полной природы. Пение это и есть «ветер».
Итак стихотворение явно и однозначно, хотя и поэтически, говорит нам, кто те, кто рискуют больше, чем сама жизнь. Это те, кто рискуют на «одно дыхание больше». И не случайно в тексте стихотворения слова «одним дыханием больше» завершаются троеточием. Оно высказывает то, о чем умолчали.
Те, кто рискуют больше, суть поэты, те, чья песнь поворачивает наше бытие без укрытия к открытому. Эти поэты поют, потому что они переворачивают расставание с открытым и вспоминает-овнутряют свойственное ему несчастье (heil-lose) в целительное (heile) целое, превращая несчастье (Unheile) в целение (Heile). Воспоминающий-овнутряющий переворот сам по себе преодолевает отвращение к открытому. Он – «предшествует всякому расставанию» и превосходит во внутреннем пространстве мира, где обитает сердце все предметное. Переворачивающее воспоминание-овнутрение есть риск, который рискует, отталкиваясь от сущности человека, в той мере, в какой он обладает речью и является тем, кто высказывает.
Но современный человек называется так: тот, кто волит. Те, кто рискуют больше, суть те, кто волят в той мере, в какой они волят иначе, нежели через преднамеренное самонавязывание опредмечивания мира. Их воление не волит ничего такого. В той мере, в какой воление есть самонавязывание, они не волят вообще ничего. Они не волят ничего в том смысле, то они согласны более других. Они больше соответствуют воле, которая как сам риск, собирает к себе все чистые силы, как чистое цельное отношение открытого. Воление тех, кто рискует больше это согласие тех, кто высказывает больше, которые решились прекратить быть закрытыми для воли, как бытия сущего. Соглашающаяся сущность тех, кто рискуют больше, высказывает, говоря больше (согласно словам Девятой Элегии):
«Земля, разве ты не этого хочешь: невидимо
Воскреснуть в нас? – Не твой ли это сон
Однажды стать невидимой? Земля! Невидимая!
Чем же еще, как не превращением, может быть твое настойчивое поручение ?
Земля, ты возлюбленная, тебя хочу.»
В невидимом внутреннего пространства мира, чьим мировым единством выступает Ангел, благодать (das Heile) мирового бытия становится видимой. Только в широчайшей окружности блага (Heile) может появиться священное (Heiliges). Поэты суть те, кто рискуют больше, потому что они ощущают ужасное (Heillose) как ужасное, идя по следам священного (Heilige). Их песня над землей освящает. Их пение празднует нетронутость шара бытия.
Несчастье (Unheil) как беда (Unheil) нащупывает нам след блага (Heil). Благо (Heiles) дает намек, призывая священное (Heilige). Священное (Heilige) связывает с божественным (Gottliche). Божественное (Gottliche) сближает с Богом (Gott) (36).
Те, кто рискуют больше, переживают ужас бытия без укрытия. Они несут смертным след богов, убежавших во мраке ночи мира. Те, кто рискуют больше, воспевающие благо, суть «поэты в скудные времена».
Отличительной чертой этих поэтов является то, что сущность поэзии становится для них достойной того, чтобы быть поставлено под вопрос, когда они идут по следам того, что должно быть высказано. Идя по следам блага, Рильке достигает поэтического вопроса: когда происходит пение, которое поет по сущности? Этот вопрос стоит не в начале его поэтического пути, но тогда, когда высказывание Рильке достигает его поэтического призвания к поэзии, соответствующей новой эпохе мира. Этот век есть ни упадок, ни отклонение. Будучи судьбой, он покоится в бытии и поглощает собой людей.
Гельдерлин – предшественник всех поэтов в скудные времена. Вот почему никакой поэт этих времен не может его превзойти. Предшественник не значит, что он в будущем уйдет, но напротив, что он придет, так как только в пришествии его слова будущее станет присутствием. Чем более чисто это пришествие состоится, тем более сущностным будет сохранение самого предшественника. Чем более тайно будет скрываться грядущее в предсказании, тем чище будет пришествие. Вот почему было бы неверным думать, что время Гельдерлина придет только тогда, когда все поймут его поэзию. В этом смысле его времена не придут никогда. Так как его собственная нищета дала в распоряжение века те силы, которые в полном незнании о его труде, сделают так, что его поэзия никогда не стала актуальной.
Предшественник значит непревзойденный и непревосходимый, так как его высказывание пре-бывает с-бывшимся (Ge-wesenes). Сущностное пришествия собирается в судьбе. То, что никогда не подпадает в последовательность происходящего, мгновенно превосходит всякую преходящесть. То, что является только прошлым, уже в силу этой пройденности, не относится к истории. Бывшее (Ge-wesene) есть историческое (Geschichtliche). В мнимой вечности прячется тленное, подлежащее пустоте недлящегося мгновения.
Если Рильке «(есть) поэт в скудные времена», тогда только его поэзия отвечает на вопрос: к чему он поэт, к чему обращен путь его песен, где место поэта в судьбе ночи мира. Эта решает история (судьба – Geshick), что в это поэзии, принадлежит истории (является судьбоносным - geschicklich).
Комментарии
- (0) Перевод выполнен по изданию Heidegger M. Holzwege, Vittorio Klosterman, Frankfurt am Mein, 2003
(1) Хайдеггер различает немецкий термин «Geschichte» и французский «histoire», оба обозначающие историю. Немецкое слово «Geschichte» Хайдеггер толкует как «Geschick», дословно «посланное», «сужденное», т.е. судьба. История как «Geschichte» есть для Хайдеггера фундаменталь-онтологическое явление (в некоторых работах он использует выражение «seyngeschichtliche» - от «Seyn» бытие в старонемецком написании, бытие как таковое и «Geschichte», что означает «относящийся к судьбе бытия»).
(2) Понятие «Welt», «мир» для Хайдеггера означает совокупность сущего (Seiende).
(3) «Wende» - «поворот», «изменение курса» и производные от этого слова, -- фундаментальное понятие в философии Хайдеггера, означающее радикальное изменение курса западно-европейской философии нагнетающегося забвения о бытии к новой постановке его в центр философского внимания.
(4) Русское слово «от-сутствие», т.е. «от-деленность от сути», точно соответствует немецкому Ab-wesen, где «ab-» - «от-» , а «Wesen» форма причастия прошедшего времени от глагола «sein», «быть», как правило обозначающее «сущность», «суть». Также греческое «ousia» -- пассивное причастие от глагола «einai» -- «быть». Также и термин при-сутствие (An-wesen).
(5) Немецкое «Sein», русское «бытие», греческое «einai» - фундаментальное понятие в философии Хайдеггера. Вопрос о «бытии» Хайдеггер считает основополагающим для всего процесса философствования.
(6) «West» 3-ее лицо единственного числа от несуществующего глагола «wesen», призванный означать «быть по существу», новообразование Хайдеггера. Русский глагол «существовать» не имеет аналога в немецком, так как означает этимологически именно то, что в данном случае стремится сказать с помощью искусственного «wesen» Хайдеггер. Обычно принято переводить глаголом «существовать» латинский термин «ex-istentia», дословно «стояние во вне» или немецкий термин «Da-sein» -- дословно «тут-бытие». Но русский глагол «существовать» никак не несет в себе ни отсылки к «внешнему», ни указание на «тут», «здесь», «вот», «сейчас», заложенные в немецком «da». Поэтому русский язык располагает в естественном виде обеими важнейшими для Хайдеггера формами выражения способа «бытия» -- «быть» («sein») и «существовать» («wesen»). Термин, аналогичный лат. «existential» и нем. «da-sein», напротив, отсутствует в русской лексики, и в строгом смысле должен передаваться в свою очередь новообразованиями – например, ex-istentia «вне-ществование», а «Da-sein», «тут-бытие». Может показаться, что на слух это звучит «дико», но ряд технических искусственно созданных философских терминов Хайдеггера и на немецком звучат довольно непривычно и странно.
(7) В старо-русском и церковно-славянском языке глагол «сказать» использовался в настоящем времени и имел значение переходного глагола (сказать кого, что). Позже он стал использоваться только в будущем и прошедшем и утрачивать переходность. Мы посчитали уместным для более точной передачи мысли Хайдеггера использовать глагол в его архаической форме. Поэты «сказуют священное», не в смысле, что они «говорят о священном» и не в смысле, что они высказывают нечто «священным образом». По мысли Хайдеггера язык является «домом бытия» (см. далее), следовательно, то, что высказывается в языке (особенно в языке поэзии и философии) поступает в бытии, начинает быть самым прямым (фундаментально-онтологическим) способом. «Сказуя священное», поэты приводят священное к существованию, делают священное сущим, выявляя или выставляя бытие.
(8) «Сущее» по-немецки «Seiende», по-гречески «on», «onta» - важнейшая категория в философии Хайдеггера. «Сущее» -- то, что есть явным образом в мире, все, что явлено, наличествует, присутствует. Отношение «сущего» («Seiende») к «бытию» («Sein») составляет , для Хайдеггера, основу философии. «Схватывать», «понимать» что-то со стороны «сущего» для Хайдеггера означает относиться к чему-то «извне».
(9) «Sein» - «бытие», главное понятие в философии Хайдеггера. Основная мысль этой философии состоит в том, что западно-европейская мысль, начиная с эпохи Платона, начинает подменять «бытие» той или иной разновидностью «сущего» (например, «идеей», позже «Богом», как «высшим существом», т.е. все-таки «сущим», «Seiende»). Параллельно этому само «сущее» все более подменяется «пред-ставлением» («Vor-stellen»). Западная философия как метафизика проходит этот путь «забвения об бытии» до конца, и это процесс завершается «нигилизмом», ярче, полнее и глубже всего вскрытым в философии Ницше. В работе «Sein und Zeit» Хайдеггер разделяет три возможности понимания «бытия» -- 1) «онтическое», от греческого «onta», «сущее», т.е. взгляд на то, что есть со стороны сущего и ограничиваясь этим взглядом ; 2) «онтологическое» -- от греческого «onta», «сущее» и «logos», «слово», «разум», т.е. взгляд на «сущее» со стороны иерархии сущих, вплоть до выделения «первосущего» из «сущего» («Бог» схоластической философии, «идея блага» у Платона и т.д.); 3) «фундаментал-онтологическое», ставящее вопрос о бытии сущего в центре внимания и рассматривающее сущее со стороны бытия, проникая к бытию сквозь сущее, по мнению Хайдеггера такой подход был свойственен философам-досократикам (особенно Пармениду и Гераклиту), и свою собственную философию Хайдеггер называл не «экзистенциализмом», но попыткой построения «фундаментальной онтологии». Чтобы подчеркнуть, что речь идет о бытии в самом себе, о бытии как таковом, Хайдеггер иногда использует старо-немецкое написание «Seyn» через «y» вместо «i». В этом случае он различает бытие как таковое (Seyn) от бытия сущего (Sein) – см. сноску (1).
(10) «Открытость», «Offenheit», «открытое», «Offene» -- фундаментальный термин в поздней философии Хайдеггера и поэзии Рильке. Хайдеггер понимает под этим сущее в его прямой связи с бытием, в той мере, в какой это сущее обнаруживает бытие (ведь с другой стороны, сущее, будучи отличным от бытия, может его и скрывать). Как «открытость» («проступание бытия сквозь сущее») или «несокрытость» (т.е. «сосредоточении внимания на той стороне сущего, которое обнажает, а не затемняет своим существованием бытие» -- хотя в других случаях оно именно «затемняет», «скрывает» его, заставляет «забыть» о нем) Хайдеггер трактует досократическое понимание греками «истины» -- «aletheia», означавшее изначально, по Хайдеггеру, дословно «не-завбение», «не-сокрытость» («a-», частица отрицания, «lethe» -- «забвение», «сокрытость»).
(11) См. сноску (1). Выражением «судьба бытия» мы переводим «Geschichte des Seins», дословно «история бытия», но в хайдеггеровском смысле «seyngeschichtliche».
(12) Здесь видно различие, которое делаем Хайдеггер между «geschichtliche» - в предыдущем предложении -- и «historische».
(13) Мы используем старославянское и церковно-славянское спряжение глагола «быть» в переходном и непереходном значении, как в современном немецком. Ich bin, du bist, er (sie, es) ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Этому соответствуют я есть, ты еси, он (она, оно) есть, мы есмы, вы есте, они суть. При этом переходность предполагает конструкции типа «я есть человек», «они суть люди», а не переходность «я есмь», «они суть»; второе подчеркивает то, что некто («я», «они» и т.д. являются «сущими»).
(14) См. сноску (7).
(15) «Сущее в целом» - «Seiende im Ganze» для Хайдеггера означает «мир».
(16) Термин «природа» в философии Хайдеггера берется иначе, нежели это принято в западной философии. Он подчеркивает, что природу надо понимать как «fusis» философов-досократиков, не как нечто «со-творенное». «Fusis» не противооставляется ни «богу», ни «человеку», ни «культуре», ни «истории», ни «разуму». Fusis и есть logos, это бытие, приводящие сущее к существованию, распространяясь во вне и «собирая» (legein ) смысл развертываемого. См. выше.
(17) Хайдеггер воспринял философию Ницше и фундаментальное значение в ней воли как важнейшее открытие Метафизики Нового времени, подытоживающее в логику развития западной философской мысли. Воля как «воля к власти» для Хайдеггера вслед за Ницше есть бытие сущего. Подробнее см. Хайдеггер «Ницше» (тома 1,2).
(18) Мы используем здесь и далее спрягаемый архаический глагол «волить» для передачи всех форм, образованных от немецкого общеупотребительного глагола «wollen», «хотеть», «желать», откуда «Wille» - «воля».
(19) Особенность отношения человека к бытию у раннего Хайдеггера («Время и бытие») подчеркивалась исключительностью «Da-sein». Только человек из всех сущих (Seiende) обладает тут-бытием (Da-Sein).
(20) Wagnis «риск», wagen, «рисковать», wagende, «рискующий», wagendere «более рискующий, самый рискующий», Gewagtes – «то, чем рискуют» -- фундаментальное понятие данного текста Хайдеггера. Это состояние описывает отношение бытия к сущему и, в частности, к человеку («человек есть тот, кто рискует больше»). Немецкое «wagen» этимологически близко к русскому «от-вага», но соответствующего смысла как в немецком «wagen» в русском языке ни одно слово не получило, и приходится переводить это заимствованным из французского словом «риск», «рисковать», более привычным слуху.
(21) Вся игра немецких слов от «schuetzen» до «geliebt» вообще не имеет никаких аналогов в русском языке, так как соответствующие понятия и ассоциации выражены совершенно разными корнями и связаны с совершенно отличными рядами словообразования. Это фрагмент представляет собой «подстрочник» немецкого текста. Речь идет об игре значений в глаголах действия, которые не поддаются переводу.
(22) См. сноску (20). Здесь Хайдеггер развивает серию этимологических соответствий связанных с корнем «wag». Старо-русское слово «вага» означало «весы», откуда «важность» («большой вес») и «от-вага» (см. сноску (20)). Немецкое «Wege» «путь» родственно русскому «везти». Эта группа старо-славянских снов считается древним заимствованием из нижне-немецкого. Возможности найти прямые соответствия в русском этой немецкой этимологической и семантической цепочке нет.
(23) Немецкое слово «Bezug», имеющее фундаментальное значение в поэзии Рильке и в разборе Хайдеггера вообще не имеет никакого соответствия в русском языке. Оно образовано от глагола «ziehen» (и отглагольного существительного Zug), который описывает «принудительное движение» -- «тянуть», «тащить», «вынимать». Существительное Zug приблизительно означает «тяга», «движение», «шествие», «переход». Beziehen с частицей be-, соответствующей русской частице о-, по-, на- выражает разные действия в зависимости от контекста – «обтягивать», «натягивать», «получать», «выезжать» и т.д. Bezug же означает «отношение», как «ссылку», как умозрительную «нить», натянутую (bezogen) между чем-то одним и чем-то другим. Такое понимание «отношения» далеко от латинского значения слова relatio («отношение») , подразумевающего сопоставление, дословно «поставление рядом одного с другим» (re- latio, сторона). И значения «относительный», «релятивный». Невозможность найти точный аналог этому термину привело французских переводчиков Хайдеггера передать это слово как «perception», т.е. «восприятие». Мысль Хайдегегра и Рильке проще понять, если воспринять (percepire) его напрямую – Bezug есть собрание чего-то, доставание чего-то откуда-то, отнесение куда-то, принудительное появление где-то. Здесь и далее мы будем напоминать об этом смысле слова «отношения» постановкой немецкого слова в скобках. Чтобы не путать его с переводом другого немецкого слова Verhaltnis, которое означает также отношение, но больше в смысле сопоставления, соотношения и сравнения, которое будет даваться без скобок.
(24) См. предыдущую сноску (23).
(25) Пред-ставление - Vor-stellen – фундаментальный термин всей философии Хайдеггера. Семантика русского и немецкого слова совпадают, так как русское слово является прямой калькой с немецкого. Пред-ставлять – значит «ставить перед собой». В этом действии выражается сущность человеческого рассудка. Начиная с Платона эта сущность начинается утверждаться в качестве главной инстанции свидетельствования о сущем, мире и бытии. Обнаружение сути рассудка, как основополагающего качества, являющегося сутью самого человека, есть, по Хайдеггеру, содержание пути развития западной философии. Но мыслить через представление, по Хайдеггеру, значит предавать забвению бытие сущего, подменять его сущим, а затем и само сущее подменять «пред-ставлением» о нем, что в конце концов приводит к замещению сущего про-из-веденным предметом.
(26) Русское слово «пред-мет» есть довольно поздняя искусственная калька с латинского «ob-jectum» (ob-, «перед» и jectum, «брошенное»). Пред-мет есть то, что «метнули перед». Немецкое «Gegen-stand», «пред-мет» - того же происхождения, и означает «перед, напротив поставленное». По мысли Хайдеггера вещь становится –пред-метом, объектом через операцию пред-ставления, выражающая сущность человеческого рассудка. Показательно, что ни в немецком, ни в русском парного термина от латинского sub-jectum (от sub-, «под» и jectum, «брошенное») образовано не было. Чисто теоретически оно было бы должно звучать варварски - субъект есть «под-мет».
(27) Производит на немецком звучит как «herstellen» -- дословно «ставить вне». «вы-ставлять». Отсюда семантическая связь между «vor-stellen», «представлять», как главное свойства человеческого рассудка, и «her-stellen», «производить» как главное свойство человеческой культуры и особенно «техники» (по Хайдеггеру именно в технике, как в процессе искусственного производства предметов выражается сущность человека). Русское слово «производить» имеет совершенно ной смысл и указывает не на искусственное со-здание нового сущего, от-сутствующего в природе (как цельной совокупности сущего), но скорее, как творческое соработничество с природой (как совокупностью сущего) в выведении скрытого бытия в открытое. Такое «произведение» соответствует изначальному смыслу греческого термина «poein», откуда «поэт», «поэзия». Herstellen – это действие культуры, уже несущее в себе техническое; «производить» -- это действие культуры, обращенной к поэтическому возврату к онтологии, действие не от бытия, но к бытию, потому что смысловое ударение падает на «из», а не на «про», и это «из» указывает на само «бытие». Произведение – это произведенное живое, сущее, а не предметное и мертвое, замещающее собой живое.
(28) Словосочетанием «преднамеренно навязывать», «преднамернное навязывание» и «преднамеренное самонавязывавние» мы переводим немецкие выражение «vorsaetzend durchsaetzen», «vorsaetzende Durchsetzung» и «vorsaetzende Sichdurchsetzung». Vor-saetzen дословно означает «ставить перед», но в отличие от философского термина «пред-ставлять» несет более физический смысл. В данном случае мы переводим «vorsaetzende» как «пред-намеренны», чтобы подчеркнуть изначальный характер «навязывания» как чего-то пред-установленного и системного, а не аффективного или случайного. В «преднамеренности» навязывания (самонавязывания) выражается сама фундаментальная установка человеческого рассудка и человеческой воли, действующих всегда заодно, если они направлены против открытого, влекомые импульсом бытия, направленным прочь от него самого. Durchsaetzen мы переводим как «навязывать», хотя семантически точнее было бы использовать слово «на-ставивать» (на своем). Но в качестве отглагольного существительного «навязывание», хотя и несколько неуклюже, намного лучше передает смысл Durchsaetzung, чем «настойчивость», которая говорит не о направлении действия, которым является в данном случае «durch», дословно «сквозь», «через», «на», но о характере его совершения.
(29) Мы используем искусственное слово «внутреннейшее», недопустимое в русском как превосхлодная степень от прилагательного» «внутренний», чтобы подчеркнуть различие между «внутренним» как «областью мысли» и еще «более внутренним» «внутренним пространством сердца» - по-немецки Innerraum des Herzes.
(30) Здесь Хайдеггер использует неприемлемые в обычной немецкой грамматике превосходные остепени прилагательных «внутреннее» и «невидимое» - das Innerste und das Unsichtbarste, переданных нами соответствующими неологизмами в русском. См. сноску (29).
(31) Немецкое «Er-innerung», написанное Хайдеггером через дефис дословно означает «овнутрение», от «inner» – «внутреннее». Хотя этимология слово «erinnern» «вспоминать» едва ли имеет отношение к «inner», «внутреннее», чтобы передать намек Хайдеггера, данный в написании слова Er-innerung через дефис, мы используем тяжеловесное и лексически некорректное сочетание «воспоминание-овнутрение».
(32) Фраза представляет собой игру слов. «Внутренне» - inwendig, Хайдеггер снабжает в скобках французским «par сoeur» – дословно «сердцем» в значении «запомнили наизусть», но выражению «наизусть» соответствует немецкое «auswendig» – дословно «вовне». Ничего подобного нет в русском языке, где «наизусть» подчеркивает не внутренне, ни внешнее, ни «сердца», а только что нечто усвоено таким образом, что может быть произнесено «устами» (видимо, без опоры на написанный текст).
(33) Игра слов: «sicher» – «безопасный» Хайдеггер возводит к «sich» – «сам», «себя».
(34) Здесь Хайдеггер разбирает термин Рильке «Dasein» не в специфическом смысле своей собственной философии как в работе «Бытие и время», где речь идет о специфически человеческом «тут-бытии», но в широком смысле «существования», причем отношение к «сущности», выходящем на первый план в русском слове, специально не подчеркивается. См. сноску (6).
(35) См. сноску (13).
(36) В этой формуле содержится смысл всей философии позднего Хайдеггера. «Unheil als Unheil spurt uns das Heile. Heiles erwinkt rufend das Heilige. Heiliges bindet das Goettliche. Goettliches naehert den Gott.»
Краткий глоссарий философской лексики Хайдеггера, рассматриваемой в данной книге
Русские выражения
Американизм – предельное выражение метафизики субъекта в форме индивидуализма, триумфа техники, потребительства, расчетливости, приобретательства; последнее выражение западно-европейской метафизики в форме чистого Gestell'а и капиталистического рыночного Machenscaft'а; конечная форма вырождения человечества; агрессивный либерализм; выбор в пользу бесконечного Конца вместо другого Начала (Anfang); то же самое, что планетэр-идиотизм.
Аутентичное (Eigene) – собственное, подлинное, соответствующее сути (Wesen) как прямому отношению (Bezug) к Seyn-бытию.
Бездна (Abgrund) – сторона Seyn-бытия, выражающая в «ничтожении» (Nichten); открытость человека, Dasein'а, сущего; отсутствие у сущего надежных оснований (вопреки топике платонической метафизики); риск, заложенный в свободу; след Seyn-бытия в сущем, обращенный, в первую очередь, к Dasein'у.
Божественное, Бог, боги (Göttlichkeit, Gott, Göttern) – одна из «мировых областей» (Weltgegende); одна из четырех составляющих четверицы (Geviert); о богах нельзя сказать, ни что они суть (sind), ни что они не суть(sind nicht); «боги нуждаются в Seyn-бытии»; боги легки и склонны к тому, чтобы убегать; боги ведут с людьми войну; см. также «последний Бог».
Бог – в западно-европейском богословии и схоластике, высшее сущее, Творец мира, религиозная фигура, поставленная на место идеи блага (истины, добра и красоты) у Платона; в деизме Нового времени – первопричина, causa sui.
Болтовня (см. Gerede) – экзистенциал неаутентичного Dasein'а; непрекращающийся поток сознания обычного человека; произнесение (вслух или про себя) слов и фраз, значение которых человек не до конца осознает или не осознает вовсе; аналог этого экзистенциала в аутентичном Dasein'е – речь (Rede).
Бытие (см. также Seyn, Seyn-бытие и Sein, Sein-бытие) – общее название того, что делает сущее (то , что есть) сущим; вектор мышления, делающий мышление философией; горизонт самого глубокого и самого истинного понимания сущего; у Хайдеггера интерпретируется в двух основных перспективах – в перспективе старой (платонической и постплатонической) метафизики и в перспеткиве фундаменталь-онтологии: в первом случае, бытие мыслится как сущность сущего, высшее сущее, идея, эго, субъект, объект, воля, власть, представление, а также техника, Gestell и т.д. и в таком случае пишется Sein (через «i»), во втором случае – как не сущее, как то, что далает сущее сущим, но само сущим не становится и пишется через «y» (Seyn), правда, не во всех текстах Хайдеггера это правило строго соблюдается, и для их корректного понимания требуется всегда уточнять, что он имеет в виду там, где использует слово «Sein» (бытие) без уточнений – Seyn или Sein?
Бытие-в (см. Insein) – экзистенциал Dasein'а, нейтральный, может быть интепретирован в неаутентичном модусе (рассеяние в сущем) и в аутентичном (соучастие в четверице (Geviert'е).
Бытие-в-мире (см.In-der-Welt-sein) – важнейший и фундаментальный экзистенциал Dasein'а, характеризующий его основное свойство; см. мир.
Бытие-с (см. Mit-Sein) - нейтральный экзистенциал Dasein'а, означает соседство Dasein'а с сущим как с множественным, panta или с бытием.
Бытие к смерти (см. Sein zum Tode) – экзистенциал аутентичного Dasein'а, основополагающее свойство человека, единственного из сущих, способного находиться со смертью лицом к лицу; человек есть «смертный» (Sterbliche) по определению; умереть может только человек, остальное сущее гибнет.
Быть (см. sein, einai) -- ) - главное понятие философии Хайдеггера; в онтическом смысле, означет быть сущим, быть как сущее; в онтологическом и теологическом смысле: быть – это быть сущностью сущего, высшим сущим; в фундаменталь-онтологическом cмысле: быть значит существовать (wesen), «быть по сути», то есть быть сопричастным к Seyn-бытию.
Ведущий вопрос философии (Leitfrage) – что такое сущность сущего? что такое сущее в целом?
Вещь – изначально сущее в его отношении к Seyn-бытию, нечто вещее, священное, сакральное (Heiligе), располагается в центре Geviert'а; в западно-еврпейской метафизике постепено превращается в объект (objectum), предмет (Gegenstand), нечто техническое, произведенное или используемое для производства (ресурс).
Воля к власти (Wille zur Macht) – глубинное содержание платонической онтологии и старой метафизики, окончательно обнаружившее себя у Ницше и в современном мире; доминация, «преднамеренное самонавязывание» (Vorsetzende Durchsetzung), нигилизм; тоже самое, что Gestell, tecnh, Machenschaft.
Война – наименование бытия у Гераклита; «отец и царь всего», отношение полярных «мировых областей» (Weltgegend) в Geviert'е.
Вот – та сторона вот-бытия (Dasein), в которой бытие (не как сущее, а как бытие) может открыться и проявиться как оно существует (west) непосредстdенно, а не опосредованно, через сущее; момент фундаменталь-онтологической фиксации внимания.
Вот-бытие (Dasein) – центр мышления, выносящий суждение о сущем и, в некоторых случаях, о бытии сущего; сущее, имеющее к Seyn-бытию особое отношение; безусловное наличие, делающее онтическое онтическим, а мир (Welt)—миром (Welt); место пребывания Seyn-бытия в сущем; имеющее своим основанием (Grund) бездну (Abgrund); момент освещения (Lichtung) сущего Seyn-бытием (как молнией); нечто определяющееся экзистенциалами; то, что локализуется в «мировой области» (Weltgegend) Geviert'а в направлении человека; то, что экзистириует фактически; главное слово в философии Хайдеггера.
Двусмысленность (см. Zweideutlichkeit) - экзистенциал неаутентчного Dasein'а, неопределенность бытового мышления, восходящяя к предельно упрощенной топике референциальной теории истины; предел вульгаризации платонизма.
Деструкция, феноменологическая деструкция (Destruktion, phänomenologische Destruktion) – приведение высказывания к контексту в пространстве метафизической топики; то же, что деконструкция в структурализме (Лакан, Деррида).
Другое Начало (andere Anfang) – сама философия Хайдеггера, приглашающая к фундаменталь-онтологии, подготовке Ereignшs'а, погребению западно-европейской метафизики и совершению радикального прыжка в Geviert.
Европейский нигилизм – последняя фаза «забвения о бытии» (Seinsvergessenheit), оставленности бытием» (Seinsverlassenheit), Конец запано-европейской философии, крушение метафизической топики, обнаружение tecnh, Machenschaft'а, Gestell'а и «воли к власти» как главной силовой линии этой философии; открытие Ницше реального состояния западно-европейской истории.
Забвение бытия (Seinsvergessenheit) – отказ от постановки вопроса о бытии в центре философского процесса; усугубляется постепенно от платонвской теории идей до современного прагматизма, технократии, марксизма (Machenschaft) и «американизма» (планетэр-идиотизма).
Забота (Sorge) – важнейший экзистенциал Dasein'а, в аутентчном режиме означает обращенность Dasein'а к бытию, в неутентичном – к сущему.
Заброшенность - важнейший экзистенциал Dasein'а, связанный с отсутствием у Dasein'а очевидной причины в сущем; проблематичность Dasein'а, его инаковость в отношении сущего, его «бездомность»; намек на этимологию слова subject (дословно, «брошенный под»)
Земля (Erde) – мировая область (Weltgegend) Geviert'а; начало сокрытости, вещественности, данности, наличия; сущее, тянущееся к тому, чтобы стать миром; прикрытие бездны; находится в состоянии войны с Небом (миром).
Идея – визуальный образ философии Платона, лежащий в основе создания метафизической топики и классической онтологии; учение об идеях Платона предопределило судьбу западно-европейской философии и, соответственно, ход западно-европейской истории; идея есть сущее, но высшее сущеее, науисущее (ontwz on, сущность сущего (ousia, Seiendheit, сущеее-в-целом (Seiend-im-Ganze); позднее, в этой топике, не меняя ее двухуровневой (референциальной) структуры, на место платоновской идеи на разных этапах ставились форма, энергия, Бог, субъект, рацио, объект, воля к власти, ценности, мировоззрение, tecnh; идея в самой себе есть чистое воплощение Gestell'а; в учении об идеях закрепляется действующий до конца западно-европейской метафизики принцип понимания бытия как Sein-бытия; платоновское учение об истине как о вскрытии соответствия вещей идеям (Платон, «Государство») лежит в основе западно-европейской теории познания (гносеологии).
Истина (см. Unverborgnheit, ἀλήθεια) – несокрытость (Unverborgenheit), может означать 1) нескорытость Seyn-бытия (фундаменталь-онтология), 2) сущего (философия первого Начала), 3) соответствие одного сущего (вещи) другому сущему (высшему сущему – идее, местe в творении, концепту и т.д.) – откуда референциальная теория истины.
Конец (End) – в рамках первого Начала становление платонической онтологии, аристотелевской логики, физики, метафизики и т.д.; в рамках всей западно-европейской философии обнаружение Ницше европейского нигилизма как основного свойства соврменности и воли к власти как движущей силы западно-европейской философии и истории.
Кто (Wer) – вопрос относительно того, кто является «я» для Dasein'а. Может быть аутентичным (Selbst, Seinkönnen) и неаутентичным (das Man).
Любопытство (см. Neugierigkeit) - экзистенциал неаутентичного Dasein'а; неспособность концентрировать мышление на вещах для постижения их смысла, их связей с другими вещами и структурами мышления; выражение бытового идиотизма; стремление к получению «новой» информации без корректного осмысления «старой».
Между (см. Zwischen) – расположение Seyn-бытия в Geviert'е (между людьми и богами, Небом и Землей); нахождение Dasein'а – между внутренним и внешним, между прошлым и будущим, между онтическим и онтологическим.
Метафизика – философская топика, основанная на системе удвоения сущего через постулирование «высшего» плана (идеи, мышления, Бога, ценности, представления, субъекта, объекта, воли и т.д.); судьба западно-европейского человечества; впервые отчетливо подготовлена в философии Платона и Аристотлея; преодоление метафизики является необходимом действияем для подготовки перехода (übergang) к другому Началу и фундаменталь-онтологии.
Мышление – 1) онтическое мышление – рассмотрение сущего в отдельности и совокупности, сравнение отдельных частей сущего друг с другом; свойство человека; 2) философское мышление – постановка вопроса о бытии и его отношении к сущему; свойство философа.
Мир (Welt, cosmoz) – порядок, открытость; сущее, пронизанное лучами света, логоса, молнии, огня у Гераклита; сущее-в-целом; как «мировая область» (Weltgegend) Geviert'а то же самое, что Небо; то в чем и как обнаруживается Dasein (см. бытие-в-мире).
Мировая область (Weltgegend) – одна из четырех составляющих четверицы (Geviert) -- Небо(мир), Земля, боги и люди; не должна мыслиться отдельно от других.
Молния (keraunoz) - у Гераклита имя бытия, наряду с именами «война» (polemoz)), «огонь» (pur), «единое» (en).
Наисущее, высшее сущее (ontwz on) – основной элемент платоновской философии и последующей метафизической топики западно-европейской философии; то же что идея, сущность (Seiendheit), Sein-бытие; в западно-христианакой теологии – Бог.
Народ (Volk) – те, кому доверен язык как высказывание Seyn-бытия о самом себе.
Настрой (Stimmen, paqoz) – экзистенциал Dasein'а, определяющий его позиционирование в отношении сущего и бытия.
Начало – переход от простого мышления (онтическое мышеление) к фиолософскому, постановка вопроса о бытии в наиболее чистом виде – до получения окончательного ответа, то есть до выстраивания полноценной онтологии; см. первое Начало, другое Начало
Находимость (Befindlichkeit) – нейтральный экзистенциал Dasein'а, факт обнаружения Dasein'ом себя самого.
Неаутентичное (Uneigene) – неподлинное, не собственное, повернутое от сути, от самого себя (Selbst), искажающее отношение к бытию или забывающее о нем.
Небо (Himmel) -- мировая область (Weltgegend), одна из четырех составляющих четверицы (Geviert) наряду с Землей, богами и людьми; воплощает принцип света, небесности, открытости, явленности, несокрытости; в некоторых случаях отождествляется у Хайдеггера с миром (в Geviert'е).
Нигилизм -- см. европейский нигилизм.
Ничто (Nichts) 1) в Seyn-бытии сторона, не совпадающая с порождающей сущее мощью, убивающее начало, то же самое, что «ничтожение»; 2) Seyn-бытие как не сущее, как отличное от сущего; 3) просто не сущее, без пояснения того, относится ли это к Seyn-бытию или нет; 4) суть судьбы западно-европейской философии и истории как Gestell'а; 5) в некоторых случаях то же самое, что бездна.
ничтожить, ничтожение (nichten, Nichten) – свойство Seyn-бытия по отношению к сущему; война Seyn-бытия против сущего.
Объект (objectum) – в метафизике Нового времени то, что находится перед субъектом.
Онтика, онтический – форма мышления, остающегося в пределах сущего и не поднимающего вопрос о бытии сущего, нефилософское мышление.
Онтология, онтологический – 1) мышление, ставящее вопрос о бытии сущего и дающего на него определенный ответ; 2) неверно сформулированный в первом Начале вопрос о бытии сущего и построенная на его основании метафизическая и философская топика, в этом значение противоположность фундаменталь-онтологии.
Онто-онтология – то же самое, что фундаменталь-онтология.
Освещенность (Lichtung) – философское обращение к Seyn-бытию и его результат для Dasein'а и сущего.
Основной вопрос философии (Grundfrage) – что есть истина Seyn-бытия? Как Seyn-бытие существует (west)? Обращение к Seyn-бытию не как к сущему и не со стороны сущего, прыжок в бездну.
Оставленность бытием (Seinsverlassenheit) – отказ Seyn-бытия напоминать о себе в ситуации неверного вопрошания о нем и получения еще более неверного ответа; игнрирование Seyn-бытием западно-европейской философии и истории; суть западно-европейской философии и истории; смысл и внутреннее содержание европейского нигилизма.
Открытость (Offene) – несокрытость, см. освещенность.
Переход (übergang) – переход от Конца философии к другому Началу, то же, что прыжок (Sprung).
Переходный вопрос (übergangsfrage) – почему есть нечто (сущее), а не ничто? (Лейбниц); вопрос, промежуточный между «ведущим вопросом» старой метафизики («что есть сущность сущего? Что есть сущее-в-целом?) и основным вопросом фундаменталь-онтологии (что есть истина Seyn-бытия?)
Первое Начало (erste Anfang) – переход от мышления к философии, осуществленный в древней Греции, осуществленный досократиками и закончившийся с Платоном.
Планетэр-идиотизм – проекция метафизики субъекта на индивидуума в современной англо-саксонской (американской) технической, либеральной, капиталистической культуре, распространяющейся в глобальном масштабе; перевод всей проблематики в сферу удовлетворения частных интересов отдельного индивидуума; пределаьная форма «оставленности бытием» (Seinsverlassenheit), нигилизма и вырождения; максимализация воли к власти в области утилитарного и ytгероического обывательского подхода; то же самое, что американизм.
Последний Бог (letzte Gott) фигура Бога из четверицы (Geviert'а), развертывающейся в другом Начале в момент Ereignis'а; эсхатологическая фигура, венчающая своим приходом сбывание Seyn-бытия; последний горизонт фундаменталь-онтологии; см. Божественное, боги, Бог.
Предмет (Gegenstand) – в культуре Нового времени произведенный или используемый в процессе производства объект.
Преодоление метафизики – необходимое действие по осознанию фатальной неадекватности постановки вопроса о бытии и ответа на него в западно-европейской метафизике (Платон, Аристотель, схоластика, Новое время); обнаружение «оставленности бытием» (Seinsverlassenheit) и корректная расшифровка его смысла; понимание техники (tecnh) и Gestell'а как судьбы (Geschick, Schiksal); операция по «феномеменологической деструкции» (Destruktion), то есть помещению любого философского высказывания в изначальную топику метафизики.
Пространственность (Raumlichkeit) -- экзистенциал Dasein'а.
Прыжок (Sprung) - обращение к Seyn-бытию, минуя сущее; то же самое, что переход (übergang)
Пустыня, опустынивание (Wüste, Verwüstung) – расширение зоны ничто (Nichts); результат замены природного сущего искусственным, опредмеченным, техническим сущим; нагретание «оставленности бытием» (Seinsverlassenheit); то же, что «скудные времена» (durftige Zeit).
Различие, онтологичсекое различие (Differenz, оntologische Differenz) -- основа философии, способность различать бытие и сущее и давать ответ на вопрос о том, каково бытие?
Распад (Verfallen) – неаутентичный экзистенциал Dasein'а, падение Dasein'а в сущее, отчуждение Dasein'а от самого себя (Selbst)
Решение (Entscheiung) – онтологический и философский выбор судьбы как ответ на вопрос о бытии сущего; в узком смысле, поворотное решение современного человечества о признании или непризнании европейского нигилизма, Gestell и tecnh как западно-европейской закончившейся судьбы (Geschick) и, соответственно, о переходе или непереходе к другому Началу.
Священное, сакральное (Heilige) – наименование Seyn-бытия в поэзии (Гельдерлин).
Скудное время – период опустынивания (Verwüstung), забвения о бытии (Seinsvergessenheit), торжества европейского нигилизма.
Событие (Ereignis) -- Seyn-бытие в другом Начале; то, как Seyn-бытие в фундаменталь-онтологии сбывается; ключевое слово в философии Хайдеггера.
Совесть (Gewissen) -- экзистенциал Dasein'а, означающий соотнесение Dasein'а в глубине своей находимости (Befindlichkeit) с самим собой, со своим Selbst (как Seinkönnen).
Страж бытия – человек в другом Начале, в Geviert'е, развернутом Ereignis'ом.
Субъект (subject) – в метафизике Нового времени носитель рациоанльного начала и инстанция, выносящая главное онтологическое суждение (cogito Декарта) о бытии сущего.
Судьба (Geschick, Geschichte) – посыл Seyn-бытия, заложенный в основе философского процесса Запада.
Суть (Wesen) – все имеющее прямое и непосредственное отношение к Seyn-бытию.
Сущее (Seiende) – наличествующие вокруг вещи; то, что воспринимается онтическим мышлением как то, что есть.
Сущее-в-целом (Seiende-im-Ganze) – ответ (особенно у Платона и Аристотеля) на онтологический вопрос о том, что отличает сущее от бытия в духе ранеей метафизики; то же, что Sein-бытие.
Существование (Wesung) – наличие в соотнесении с сутью, то есть с Seyn-бытием.
Сущность (Seindheit, ousia) -- ответ на онтологический вопрос о том, что отличает сущее от бытия в духе ранеей метафизики; у Платона – идея; основа двухмерной философской топики и референциальной теории истины; то же, что Sein-бытие.
Теология, теологика – христианская религиозная философия Западной Европы, построенная на основании платонической и аристотетелвской метафизики; представление о наисущем, высшем сущем как о персонифицирвоанном Боге-Творце.
Удивление – настрой (Stimmen, paqoz), приводящий (согласно Платону и Аристотелю) к философствованию в первом Начале.
Ужас (Angst)- экзистенциал Dasein'а, вытекающий из его беспочвенности, заброшенности и находимости на дистанции от всего сущего; опыт соприкоснования с Seyn-бытием, как с «ничтожащей» мощью; прыжок в бездну; проявление того Sein, которое открывается, высвечивается в da (вот, здесь); основной настрой (Stimmen, paqoz) мышления в другом Начале (по контрасту с первым Началом, где им было удивление)
Философия – мышление, ставящая перед собой вопрос о бытии сущего и развертывающееся в топике, обоснованной ответом на этот вопрос.
Фундаменталь-онтология, фундаменталь-онтологический – философское мышление, ставящее в центре внимания Seyn-бытие; мыслящее его непосредственно и напрямую не со стороны сущего, а из него самого; отвергающее двойную топику старой метафизики и выстраивающее философию без отрыва от онтического (нефилософского) мышления и его очевидностей; то же самое, что онто-онтология.
Человек – сущее, отличающееся от всего остального сущего особенностью отношения к Seyn-бытию; то, через что Seyn-бытие высказывается; приблизительное местонахождение Dasein'а; сущее, не имеющее сущности, суть которого ведет в бездну; в старой метафизике одно из имен субъекта, «животное, обладающее словом-разумом» (zoon logon econ, animalis rationalis); в философии другого Начала – «страж бытия».
Четверица (Geviert) – фигура фундаменталь-онтологического понимания сущего через Seyn-бытие; состоит из Неба-мира (Himmel, Welt) Земли (Erde), богов (Gottern) и людей (Menschen); каждая из осей Geviert'а (боги-люди, Небо-Земля) представляет собой линию войны (Streit); в центре на перекрестье осей можно расположить Seyn-бытие, Ereignis и вещь (Ding).
Экзистенция – утверждение (нефилософского) мышления о факте онтического наличия того или иного сущего.
Экзистенциал – одна из содержательных сторон феноменологического экзистирования Dasein'а.
Экстаз – выход за пределы, формы экзистирования и существования в Zeit-времени.
Язык (речь, Rede) – высказывание Seyn-бытия о самом себе через аутентичное экзистирование Dasein'а; доверяется народу (Volk), откуда его черпают мыслящие и философствующие единицы.
Немецкие слова
Abschied – прощание.
Als – как.
Abendland – Запад, буквально, «вечерняя страна».
Abgrund – бездна.
Abkehr – отвращение, поворот от.
Alltäglichkeit, dürchdringliche Alltäglichkeit – повседневность, всепронизывазщая повседневность.
Anfang, anfängliche – Начало, начальное.
Angst – ужас, страх.
Anwesen – присутствие, наличие.
Aufgehen – восхождение, всходы, прозябание, акт fuzein откуда fusiz.
Aufstellung – постановка на, над; водружение.
Befinden, sich befinden – находиться.
Befindlichkeit – находимость.
Besinnung – осмысление, мышление, продумывание.
Bezug – отношение.
da - вот, здесь.
Dasein – вот-бытие; в обычном смысле, существование, бытие.
Destruktion (phanemenologische Destruktion) – разрушение, феноменологическая деструкция.
Differenz (оntologische Differenz) – различие, онтологическое различие.
Ding – вещь.
durftige Zeit – скудное время.
Dort – там.
Du – ты.
Eigene – собственное, аутентичное.
Entscheidung – решение.
Entwurf – проект, набросок.
Er – он.
Ereignis, Er-Eignis – событие; у Хайдеггера синкрета, искусственно сближающая значение слова с eigene, собственное, аутентичное
Er-Innerung – воспоминание (как овнутрение); у Хайдеггера синкрета, искусствуено сближающая слово с корнем inner, внутреннее.
Ermächtigung – легитимация.
Erstaunen – удивление.
Entsetzen – ужас.
Existential – экзистенциал (относится к фундаменталь-онтологичеcкому анализу Dasein'а)
Existentiel – экзистельнциальный (относится онтическому описанию Dasein'а)
Ewige - вечный
Furcht – страх.
Gefüge – структура, каркас.
Gegenstand – предмет.
Gerede - болтовня.
Geschichte – история; у Хайдеггера судьба западно-европейской философии, заложенная в ее онтологической структуре и связанная с этой структурой и ее топикой.
Geschick – судьба, посыл.
Gestell – то, что по-ставлено (как полка или остов), сустав; важнейшее слово в философии Хайдеггера, означающее отношение к сущему со стороны метафизически понятого бытия и, соответственно, человека, действующего в топике этой онтологии.
Gewicht – вес.
Gewissen – совесть, экзистенциал Dasein'а.
Geworfenheit – заброшенность, экзистенциал Dasein'а.
Gleiche, ewige Wiederkehr des Gleichens – одно и то же, равное; вечное возвращение одного и того же (Ницше).
Grund – основание.
Heilige – священное, сакральное.
Herstellung – производство.
Hier – здесь.
Holzwege – лесные тропинки; в значении то ли это тропника, то ли это лес.
Ich я
Insein – бытие-с, экзистенциал Dasein'а.
Inzwischen-Sein – бытие-между.
kommen, das Kommendste – приходить, самое приходящее (в отношении последнего Бога).
können, sein können – мочь, мочь быть; главное свойство аутентичного Dasein'а.
Künftige – будущие; те, кто относятся к другому Началу и Ereignis'у.
Lichtung – освещение.
Machen - делать
Machenschaft – машинерия, техническое производсвтенное отношение к сущему и бытию; основное свойство марксизма и капитализма; сутью Machenschaft'а является Gestell; близко к tecnh.
Macht – могущество, власть; от machen.
Man, das Man – «кто» неаутентичного Dasein'а.
Mit-Sein – бытие –с, экзистенциал Dasein'а.
Neugierigkeit – любопытство, экзистенциал Dasein'а.
Nichten – ничтожение.
Nichts – ничто.
Offene – открытое.
Raumlichkeit – пространственность, экзистенциал Dasein'а.
Rede – речь.
Schützen, Shutz, Schutlosigkeit – опираться, опора, отсутствие опоры.
Seiende – сущее.
Seiende-im-Ganze – сущее-в-целом.
Seiende ist – сущее есть.
Seiendheit – сущность.
Sein, Sein-бытие – бытие в онтологии.
Seinsvrgessenheit – забвение о бытии.
Seinsverlassenheit - оставленность бытием.
Selbst – сам, само, кто аутентичного Dasein'а.
Seyn, Seyn-бытие – бытие в фундаменталь-онтологии.
Seyn west -- бытие существует.
Seynsgeschichte, seynsgeschichtliche – судьба, сопряженная с Seyn-бытием, посыл Seyn сквозь структуру и историю западно-евпропейской философии о самом себе с помощью постепенного самоустранения и самоскрытия в ходе развертывания первого Начала (вплоть до триума нигилизма и Machenschaft'а) и самообнаружения в другом Начале (Ereignis); важнейшее слово в философии Хайдеггера.
Sorge – забота, экзистенциал Dasein'а.
Sprung – прыжок.
Sterbliche – смертный.
Stimmen – настрой, голос, настроение; экзистенциал Dasein'а.
Streit – война, битва.
Tod, zum Tode sein – сметь, бытие-к-смерти; экзистенциал аутентичного Dasein'а.
übergang -- переход
übergangsfrage – переходный вопрос.
uneigene, Uneigentlichkeit – неаутентичный, неаутентичность.
Unheil – несчастье.
Verbergen – скрывать, прятать, хранить.
Verfallen – разложение, упалок, запустение; экзистенциал неаутентичного Dasein'а.
Vernehemen – воспринимать.
Vernehmung – восприятие.
Verstehen – понимать, понимание; экзистенциал Dasein'а.
Verstellen – скрывать, обманывать, заставлять одно другим.
Verweigerung – отказ, отречение.
Verwüstung – опустынивание.
Volk – народ.
Vorhandene - наличествующее
Vorstellung – пред-ставление; специфика мышления в рамках западно-европейской метафизики, восходит к платоновскому учению об идеях.
Vorstzende Durchsetzung – преднамеренное самонавязывание.
Wächterschaft – несение стражи, охрана.
Wage – весы.
Wagnis – риск, опасность.
Wahrheit – истина.
Weg – путь.
Weltgegend – мировая область.
Weisung – указание, диктат, направление.
Wendung – поворот.
Wesen – суть.
Wesen als Verb (iche wese, du wesest, er, sie, es west, wir wesen, ihr weset, sie wesen) – существовать (еще точнее, в русском было бы «сутвовать», но это слишком жутко звучит)
Wesentliche – то, что по сути.
Wesung– существование
Wille zur Macht - воля к власти.
Wink – кивок, знак, подмигивание.
Wohnen - жить
Zeit, Zeit-время – время в германском понимании как то, что отделяет (в противовес славянскому корню – время, как то, что связывает, соединяет).
Zufall – случай, дословно то, что выпадает.
Zuhandene – подручное средство.
Zukunft – грядущее.
Zweideutlichkeit – двусмысленность, экзистенциал Dasein'а.
aiwn paiz esti paizwn, pesseuwn: paidon hJ basilhih -- время есть играющий в кости ребенок; его игра – царствование (Гераклит).
ἀλήθεια - истина
autenthikon - собственный, подлинный, аутентичный.
Daimon - бог, малое божество
Deinon ужас, нечто внушающее страх.
Dikh - справедливость
Doxa - видимость, внешний вид
ego- я
eidoz - вид, эйдос
einai - быть
en - единое
extasiz - экстаз, выход из себя
escaton - конец
eqoz anthropo daimon - этос человеку бог (Гераклит)
ιδέα - идея
idion - собственное, принадлежащее только мне
kalon - благое, благо
keraunoz - молния
koinon - общее
λεγειν - говорить, мыслить, изанчально, пожинать
logoς - слово, мысль, речь; изначально, жатва
macanoen - биться, сражаться
Meqodoz - метод, указание пути
Mecanh механизм, машина, аппарат
nouz - мышление
on - сущее
ontwz on - наисущее, высшее сущее
ousia - сущность
outoz - сам
qaumazein - удивляться
qeoz - бог
panta - все все сущее
polemoz - война, битва
pur - огонь
zoon logon econ - - животное, обладающее логосом (речью, мышлением)
sfairh, eukukloz sfairh - сфера, шар, «благокруглый ша»р (Парменид)
temnein - разделять
tecnh - техника, ремесло, мастерство
’υλη - материя, субстанция; изначально древесина
φαίνεσται - являться
juzein - порождать, давать всходы
φύσις - природа
yuch - душа
animalis rationalis разумное животное
causa sui причина всего
cogito ergo sum, cogito мыслю, следовательно есть (азъ есмь) (Р.Декарт)
creare создавать, творить
ens сущее
ens creatum тварное сущее
esse быть
essentia сущность
existentia экзистенция; дословно, стояние вовне
homo economicus человек экономический, хозяйственный
jacere бросать, метать, кидать
mundus imaginalis воображаемый мир
negatio отрицание
objectum объект, предмет, дословно» брошенный перед
ordo порядок
positium позитивное, поставлнное, утвержденное
ratio рассудок, разум
res вещь
res cogens мыслящее начало
res creata сотворенная вщь, тварная вещь
res extensa протяженность
subjectum субъект; дословно то, что бросили вниз, под.
Substantia – субстанция; дословно стоящее под
Templum - храм
Tempus - время, как отделенное, ближе к немецкому Zeit, чем к русскому время.
Transcendens – трансцендентный, находящийся по ту сторону границы
vis primitive active изначальная деятельная сила (Лейбниц)
Оглавление
Том 1. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала
Раздел 1. Seyn und Sein
Глава 1. Встреча с Хайдеггером приглашение к путешествию
Мышление и его авторитеты
Хайдеггер: великий или величайший?
Хайдеггер в СССР: дальняя полка спецхрана и напрасные тщания Бибихина
Хайдеггер как самый западный из западных философов
Хайдеггер и метаязык новой философии
Молчание Хайдеггера
Случайность удач
Философ как идентичность
Мыслить словами: индоевропейские зоны мышления
Мыслить по вечернему
Глава 2. Бытие и сущее
Различение («ontologische Differenz»)
Das Sein и das Seiende
Сущее легко понять: основание мышления
Бытие есть проблема: ведущий вопрос философии
«Ведущий вопрос философии» был сформулирован некорректно
Глава 3. Фундаменталь-онтология
Сложность Bezug'а
Онтика
Онтология
К фундаменталь-онтологии
Глава 4. Das Seynsgeschichtliche
Die Geschichte и Seyn
Посыл и скачок
Seynsgeschichte как соучастие в бытии (Seyn)
Seyn ist Zeit
Три пласта истории
Sein в онтологическом срезе истории
Язык и глагол «быть» в Seynsgeschichte
Глава 5. Начало и конец западноевропейской философии
Почему вечер?
Великое Начало и даймон философов
φύσις и logoò
ἀλήθεια в первом Начале
Катастрофа платонизма (идея и представление)
Хайдеггер и христианство (платонизм для масс)
Декарт: наука и метафизика Нового времени
Vorsetzende Durchsetzung
Опредмечивание вещей
Гегель: порыв «Большой Логики»
Ницше и Конец философии
Глава 6. Seynsgeschichtliche антропология Хайдеггера
Вина человека
tecnh как западноевропейская судьба
Свобода и воля
Глава 7. Другое Начало (die andere Anfang)
Предпосылки другого Начала
Переход (übergang)
Ereignis
Последний Бог
Человек в другом Начале (новый гуманизм)
Глава 8. Seynsgeschichte и политические идеологии ХХ века
Фундаменталь-онтологический метод и область его применения
Американизм и планетэр-идиотизм либералов
Метафизика коммунизма: Machenschaft
Политическая идеология Третьего пути
Глава 9. «Всё еще не»
Метафизика задержки
Человек Начала
Глава 10. Хайдеггер как великая веха
Раздел 2. Das Geviert
Глава 11. Описание das Geviert
Значение слова «das Geviert»
Четверица (Geviert) и Seyn-бытие
Состав четверицы (Geviert'а)
Война в четверице (Geviert'е)
Небо
Небо и мир
Земля
Ураногеомахия
Боги Начала
Люди Geviert'а
Войны богов и людей
«Мы думаем об остальных трех»
Зачеркнуть Sein
Люди и боги как соседи
Ось антропотеомахии
Seyn-бытие как «между»
Geviert и Ereignis
Вещь (Ding)
Вещь и дары Geviert'а
Глава 12. Geviert как карта Начала и отступления от него
Пустыня растет
Идея застилает Небо
Земля обратилась в материю
Человек человеческий
Вытесненные боги
Судьба перекрестья
Geviert и схоластика
Geviert в метафизике Нового времени
Gestell как судьба
Индустриальная трансформация четверицы
Симулякр
Глава 13. Geviert в другом Начале
Geviert и горизонт будущего
Geviert как цель (воля к решению)
Раздел 3. Dasein
Глава 1. Три этапа развертывания философии Мартина Хайдеггера
Глава 2. Dasein и история философии (от первого Начала к концу философии)
Dasein как озарение и как вывод из историко-философского анализа
Концептуальные предпосылки возникновения Dasein
Историко-философские пролегомены к философии Хайдеггера
Досократики
Платон
Схоластика
Онтологический треугольник
Онтологические трансформации в философии Нового времени. Рациональная онтология субъекта у Декарта
Эмпирическая онтология
Монада Лейбница
Онтологическое сомнение Канта
Фихте и Гегель: преодоления кантианского пессимизма
Ницше – конец философии
Гуссерль
Глава 3. Dasein и его экзистенциалы
Введение Dasein
Da и Sein
Вот-бытие
La realite humaine
Опыт Dasein как явление языка и как взрыв
От эссенции к экзистенции
Три онтологических среза
Dasein как бытие-между
Экзистенциалы Dasein
In-der-Welt-sein (бытие-в-мире)
«Бытие-в» и «бытие-с»
Забота (die Sorge)
Заброшенность (Geworfenheit)
Befindlichkeit (находимость) и страх
Verstehen (понимание?)
Речь (Rede)
Stimmung
Глава 4. Неаутентичный режим экзистирования Dasein'а
Аутентичность и неаутентичность Dasein'а
Всепронизывающая повседневность
Распад (Verfallen)
Болтовня (Gerede)
Любопытство (Neugierigkeit)
Двусмысленность (Zweideutlichkeit)
Страх как бегство
Фигура das Man
Das Man как эсзистенциал Dasein'а
Глава 5. Аутентичный Dasein
Аутентичный Dasein и бытие
Бытие, которое вот и которое есть
Пространственность как экзистенциал Dasein'а
«Кто» аутентичного Dasein'а
Бытие к смерти (Sein zum Tode)
Совесть (Gewissen)
Позитивность аналитики Dasein'а во обоих режимах
Dasein и Seyn
Глава 6. Zeit-время и его горизонты
Введение выражения Zeit-время
Конечность Zeit-времени
Три экстаза Zeit-времени
Приложение. М.Хайдеггер. К чему поэты?